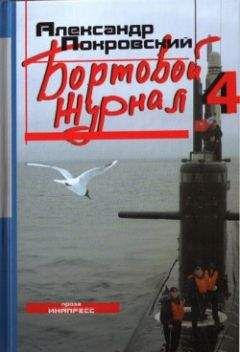Владимир Покровский - Дожди на Ямайке
Все это настолько не вязалось с излишне спартанскими привычками куаферов, настолько вроде бы должно было отталкивать - но ведь нет же, тянуло! Даже иногда возникала у Федера мысль завести и у себя что-то подобное, правда, тут же пресекалась деловыми соображениями: обстановка на проборе, тем более таком напряженном, ни в коем случае не должна способствовать расслаблению. Работа, сон, работа, сон, работа, сон - и в определенное время оттяжка. Оттяжка жесткая, с перебором, даже с допустимым насилием - все что угодно, только не такой вот безмятежный покой. Не вязалось все это, не вязалось, но так притягивало!
Имелся в этих визитах один минус, который Федеру был понятен и влияние которого он старался уменьшить. Он никак не мог совместить образ хладнокровного убийцы, санкционировавшего расстрел космополовцев, готовящего массовое уничтожение всей куаферской команды во главе, надо думать, с самим Федером, и того человека, с которым он то и дело был принужден встречаться и беседовать, порой на самые отвлеченные темы.
Аугусто не просто не вязался с образом хладнокровного убийцы - он был, как убедился Федер после долгих сомнений, нервным интеллектуалом, место которому в каком-нибудь высшем колледже или Инженерской ложе. Он разбирался в музыке и любил ее, у него был хороший художественный вкус. "Я - очень многообещающий человек, который своих обещаний не выполняет", сказал как-то он про себя в разговоре с Федером.
- Где вы врете? - спросил однажды его Федер в минуту максимальной откровенности.
Аугусто сделал вид, что не понял.
- То есть?
- На каком уровне вы врете? На уровне разговора со мной или глубже - на уровне разговора с собой?
Аугусто ответил, сразу же посерьезнев:
- И вам, и себе я обычно говорю правду. Но почему вы думаете, что я на каком-то уровне лгу?
- Не может человек, убивающий других ради собственной выгоды, быть таким, как вы. Это неестественно. Так не бывает.
Аугусто заметно обиделся.
- Я считал вас тоньше, дорогой Федер. Мне именно тонкость ваших суждений импонирует. Значит, вы всерьез считаете, что человек, способный на такие вещи, как я, уже и не человек вовсе?
- Да нет, вы не поняли, я...
- Что он уже и чувствовать не может, и сострадать, и что там еще? Любить. Говорить правду. Вроде как убийца уже недочеловек.
- Аугусто, не заставляйте меня говорить прописные истины.
- Ах, да подите вы со своими прописными истинами куда подальше!
Аугусто так резко вспылил, что Федеру стало страшно. Ему довольно часто бывало страшно в компании этого человека, но это был страх провала, может быть, страх смерти. Подобное давно не испытываемое чувство было известно Федеру лишь по детским воспоминаниям да первым шагам в куаферстве, когда всякая опасность непонятна, непредсказуема, когда окружающий мир чужд, агрессивен и неизвестен и кажется, что все твои приборы, все защиты твои, все приемы, разученные во время бесчисленных тренировок, - все это не то, все чушь сплошная, не способная защитить даже на десять процентов. Страх насилия, которое ты не знаешь как отразить. Не смерти, не боли, но именно процесса, неотвратимо несущего тебе и то и другое, оскорбительные и унизительные боль со смертью.
Аугусто вскочил с кресла, запахнул серый гладкий халат, подошел к пейзажу Карла Амбрабаладентры-Коральского, уставился на него, разглядывая не пейзаж, а какую-то незримую пустоту. Потом со слабой улыбкой обернулся к Федеру.
- Все в порядке. Я опять собеседник. Но мы с вами, дорогой Федер, подошли к барьеру непонимания. Я отказываюсь понимать вас, вам противно понимать меня. Но я попробую что-нибудь с этим барьером сделать. Это даже интересно - попробовать. Смотрел я когда-то, уверен, что и вы тоже смотрели, стекло по рассказу одного французского, кажется, писателя. Не помню, как его звали, но имя очень известное. Еще времен монопланетной цивилизации. Там речь шла об одном молодом студентике, который себя вообразил гением, которому все можно, а чтобы доказать себе, что все ему можно, взял да и убил какую-то бабушку. А потом очень долго шел к пониманию, что то ли он не гений, то ли что даже гениям других людей убивать нельзя. Очень впечатляющее стекло.
- Помню, да. Только рассказ был, кажется, не французский, а скандинавский. Там все время были снега, льды и торосы.
- Ну, это не важно. Я тогда был почти такой же молодой, как тот студентик. И так же как и он, размышлял я в те времена с большим усердием на эту самую тему - как и когда человек может позволить себе убийство.
- Почему вас так волновала эта тема? Вы уже тогда готовились стать убийцей?
- Не знаю. Думаю, причина намного глубже. Меня всегда раздражали запреты, даже самые обоснованные. В какой-то момент я понял вдруг, что этот француз прав...
- Он был точно не француз...
- Не важно. Я понял, что к гениям, ниспровергателям по природе, запрет на убийство относится точно в той же мере, как и ко всем остальным людям. Вообще нет людей, которым этическим запретом на убийство разрешено пренебречь. Запрещено всем. Но за все тысячелетия существования цивилизации вы не найдете и десятка лет, года не найдете, чтобы кто-нибудь кого-нибудь не убивал на узаконенных основаниях. И тем не менее цивилизация существует, развивается и в известной степени процветает. Правила человеческого существования, дорогой Федер, - не важно откуда они к нам пришли, сложены ли они опытом всех предшествующих поколений или продиктованы самим Господом Богом, - направлены, сколько я понимаю, на то, чтобы человечество не вымирало как вид. Потом придумали слово "цивилизация". Никто не знает точно, что оно означает, однако выяснилось, что для сохранения цивилизации нужно соблюдать кое-какие правила, которых в скрижалях нет. И каждый раз на первом месте в этом избыточном и одновременно неполном списке всеобщих правил на первое место ставился моральный запрет на убийство. Сначала мне казалось, что люди или Бог в чем-то ошиблись. Не может быть самым первым, самым великим, самым из всех наиболее категорическим тот запрет, который нарушается массово, повсеместно, при этом не приводя к гибели ни человечество, ни эту вашу, как вы ее называете, цивилизацию.
- То есть убивать все-таки можно?
- Нет, нельзя. Но если самое главное правило признать абсолютным, то все остановится. Жизнь замрет, подавленная множеством неразрешимых конфликтов. Вам бы нечего было делать на проборе, если бы запрет на убийство не имел исключений.
- Я не нарушаю запрета на убийство. Я убиваю только тогда, когда ничего другого...
- Вот-вот. Получается "Не убий, если...". Получается, что, если нет необходимости убивать, не убивай. А так - пожалуйста! Запрет не абсолютный, а условный. Причем условие заранее никогда не оговаривается. Условие человек формулирует сам. Что это? Недостаток опыта человеческого, ошибка Господа Бога - что? Не пытайтесь с ходу ответить, ответ непрост. Я сам вам скажу.