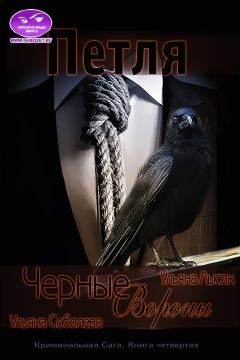Лилия Баимбетова - Планета-мечта
Деточка…. Да, может быть, я до сих пор для него — деточка. И, может быть, я до сих пор что-то значу для него, когда-то нам было так весело вдвоем. Я очень любила многих на этой планете, но только с Кэрроном я чувствовала себя так легко. При нем можно было все, при нем я чувствовала себя защищенной от любой напасти. Только это время прошло.
А ведь я его даже не знаю. Он умел быть нежным с детьми — вот что я знаю о нем. И еще то, что он действительно маг и, наверное, один из самых сильных на этой планете…. Как прерывался его голос! Как он дотрагивался до моей руки, тихо и быстро говорил… одиночество безумное, какое страшное одиночество сквозило во всем этом. Сколько дней я ничего не слышала о нем, но где-то он ведь был и что-то делал. Где-то и что-то…. И я прилетела сюда, чтобы…. Кэррон! Что я могла сделать? Единственный абсолютно невозможный выход из того положения был — схватить его в охапку и утащить в Торже, заставить вымыться, накормить, уложить спать — и заставить его улететь с Алатороа. Здесь он мог только умереть, рано или поздно, смог бы жить только в миссии, ведь у нас там все свое, и вода, и продукты, или где-то за пределами Алатороа. Но выход этот был совершенно невозможен. Я не побоялась бы оскорбить его, но мне с ним было просто не совладать. И, смешно, меня мучила не война, которая нам предстояла, а то, что он… даже не то, что он умирает, а то, что вела к его смерти: его голод, усталость, одиночество. И то, что я ничего не могла с этим поделать. И мне страшно жаль, что я так и не обняла его, ему было бы, может, полегче. И мне тоже…
Смешно, а ведь мы были совершенно чужие. Почему же мне казалось, что…. Впрочем, и ему ведь казалось. Он ждал мой ласки, моего участия, ждал, хоть, может, и сам не вполне понимал, чего ждет. Но я, дура, не поняла этого тогда, только сейчас поняла. Ах, Кэр! Я ведь по себе знаю, знаю прекрасно, что в самые тяжелые моменты непременно нужен кто-то, кто посочувствовал бы тебе. И пусть этого человека рядом нет, но лишь бы он был хоть где-то! У меня ведь никого не было и нет, разве что коллеги, с которыми мы, впрочем, встречаемся не так часто. Координатор — это профессия одиночества. У меня нет даже родителей и давно уже нет, даже когда они были, их вроде бы и не было…. И он, оставшийся совершенно, немыслимо — один… он увидел только девочку, которую когда-то носил на руках, он еще не верил, не видел во мне — профессионала, противника, врага. А я уже знала, что моя любовь к Алатороа, моя любовь к нему самому не остановят меня, что придет время, и я стану работать, как раньше, как на Ламманте. Даже здесь — сумею, как на Ламманте. Потому что как бы я ни любила, профессионализм во мне сильнее. Это все равно, как в бою, если на воина нападет вдруг любимое им существо и будет стараться убить: ты будешь защищаться и в угаре боя убьешь, ведь убьешь, не удержишь копья! Копейный бой беспощаден. Как и всякий, впрочем, а ведь здесь тоже бой, и я не замечу, как ударю, и, быть может, нанесу роковой удар. Красивые слова, ах, какие красивые!
Как же мы все-таки расходуем себя! Кажется, всюду, на каждой планете, мы оставляем часть себя. Так происходит, наверное, только у писателей, они так же пропускают через себя миры и людей, только к нам эти миры и люди приходят извне, а откуда они приходят к писателям — они и сами, пожалуй, не знают. И это так растрачивает душу. Не знаю, как у других, а я буквально чувствую, что всюду, где я работала, осталась часть меня. И меня самой вроде бы стало меньше. Даже на Ламманте осталась часть моей души, даже там, и что-то, может быть, приобретя, я что-то несомненно утратила — навсегда. Часть своей души. Миры. Мы тратим себя — на них. Зачем, по какой дурацкой причине я вообразила, что именно так хочу прожить жить? И сотни людей то же самое вообразили о себе? Но теперь уже поздно. Отсюда обратного пути нет, ибо я уже стала координатором. И в сущности, в этом нет ничего плохого. Люди нас не любят, но почему я сама должна не любить себя, свою жизнь, свой образ жизни? Я ужасаюсь на писателей: как они живут — с сотнями людей в душе, проживая за каждого из них, видя их быт, чувствуя их чувства? Но писатели, спорю на что угодно, точно так же ужасаются на меня: как я живу — с сотнями лиц, способная изобразить что угодно и кого угодно, способная убивать и лгать, способная жить абсолютно чуждыми мне жизнями? А ведь это то же самое. И писатель, наверное, не выбирает миров. Он, может, только думает, что сам выбирает. Воображение не подчиняется даже воле хозяин…. Как же мы растрачиваем себя! Мне кажется, я однажды закончусь, меня просто не хватит. Но где-то в глубине души все же тлеет уверенность, что нет, не кончусь, что это бесконечный процесс. И, в общем-то, этот процесс дарит мне своеобразную радость. Ведь, не будь этой радости, я не была бы координатором, так же, как писатель не был бы писателем, если бы ему не нравилось носить в себе десятки личностей со всеми обстоятельствами их жизни.
Пригнувшись, я прошла по еле заметной тропинке в ивовых кустах и остановилась на берегу озера. Берег был глинистый. У другого берега росли камыши. Вода была темная, зеленоватая, неподвижная. Плетенный травяной мост висел низко-низко над водой. Сваи возвышались на метр над гладью озера, и плетенная из свежего тростника хижина стояла на них: тороны каждый год обновляют свои жилища. Уже увядшие цветы марахонии были вплетены в стены, образуя причудливый узор. Пахло болотной, застоявшейся водой и зеленью.
Я шагнула на мост, и он качнулся под моим весом. Мост был узкий, просто плетенная из травы лента шириной в полметра, и видны были места, где в прохудившуюся ткань вплетали свежие стебли. В середине мост зачерпнул воды. Я дошла до хижины и остановилась понюхать марахонию. Цветы увяли, но запах был еще сильным. Откинув травяной полог, я вошла в хижину.
Внутри никого не было. Я присела на плетеную кровать, потом легла и закрыла глаза. Снаружи было жарко, а здесь, напротив, прохладно, и казалось, будто этот холод идет от воды, которая тяжело плескалась под полом. Внутри тоже полно было марахонии, и одуряющий запах наполнял хижину. Я не заметила даже, как уснула.
Проснулась я от легкого шума. Приоткрыв глаза, я увидела Тэя, расхаживающего по хижине. Он кивал рогатой головой и изредка дотрагивался когтистой лапой до цветов, торчащих из стен. Звучать здесь было нечему, и потому вместо звуков ко мне пришли ощущения. Дружелюбие. Радость встречи.
Я села на кровати. Вопросительное ожидание.
— Да. Я не просто так пришла, Тэй. Я видела Кэррона.
Недоумение. Отчуждение. Боль. Отторжение. Вопрос.
— Ему плохо, — сказала я, глядя на торона.
Глаза Тэя засветились и угасли, стали, как остывшее золото. Безразличие.