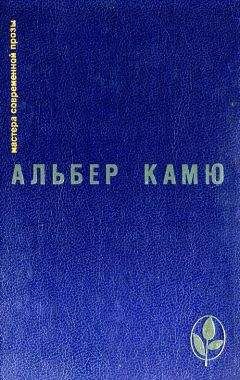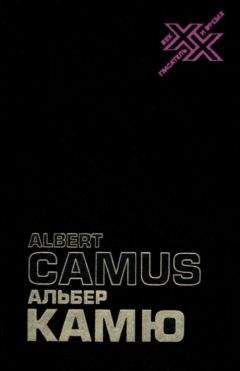Владимир Михайлов - Не возвращайтесь по своим следам
Я знаю, многие из вас сейчас думают: но зачем нам снова идти туда, где мы — или потомки наши — уже однажды были и откуда им пришлось бежать? Совершенно верно: нам туда не нужно. Мы не захотим туда. Но если сейчас время ведет нас по своим старым следам, и мы не в силах свернуть, — то, повернув его, мы не станем снова ступать след в след; мы найдем новую дорогу. Потому что мы должны прийти туда другими людьми. К первой жизни мы относились пренебрежительно, потому что считали, что она дана нам от природы или от Бога в безраздельное и какое угодно пользование. Ту жизнь мы считали своей рабой, хотя и сами частенько бывали рабами; быть рабом плохо, но рабом раба — хуже и не придумаешь. И мы погубили ее, думая, что никогда и ни перед кем не ответим, и с нею погубили себя — хотя бы через далеких праправнуков.
Эту, вторую, мы терпим, потому что она уже не наша раба, она хозяйка наша, и нет для нас Юрьева дня, некуда уйти, казалось бы, — только терпеть. И, как всякий раб, мы радовались тому, что можно не думать, не решать, не рисковать, — все делала за нас наша хозяйка; и если нам нужно было еще раз пройти через какое-то из наших прошлых деяний, которого мы с удовольствием избежали бы, мы говорили, потупившись: но это же не мы, это жизнь, это она такова, не мы плохи — она плоха!
Нет; объявим Юрьев день — и уйдем от нее. Уйдем в неизвестность, сложность, негарантированность, многовероятностность новой прямой жизни. И будем делать ее по-новому. Мы можем — стоит только захотеть! Люди уже думают над тем, как мы будем жить там; возможно, сегодня они еще не во всем согласны друг с другом, никто не обещает нам безмятежности с первого дня, наоборот — нынешний день, может быть, будет порой казаться безмятежностью по сравнению с тем, что придется нам пережить тогда; но то будет наша жизнь, наша собственная, и каждый из нас окажется ее хозяином. И как хозяину каждому из нас уже с самого начала будет ясно, самое малое, одно: сравнивая с самой первой, с прошлой нашей жизнью, менять придется многое. В нас самих. В том, что нас окружает. Во всей цивилизации, которую создали наши предки и продолжали мы сами и наши потомки. Нам будет ясно, что начинать можно только одним и продолжать можно только это одно: добро и доброту. К себе, к соседу, к собаке и кошке, к дереву и цветку, воздуху и воде, ко всему, что на земле и внутри нее. Забыть, что главное в жизни — политика, и забыть, что главное — наука или искусство, но помнить: главное в жизни — это отношение к ней, то мировоззрение, которое основано на моральных постулатах, и ни на каких других, то, в котором цель не оправдывает средств, наоборот, средства оправдывают — или не оправдывают цели, если они не несут в себе доброго начала. Вот что должны мы сделать. Не сразу. Не везде. Но не будем ждать, пока кто-то сделает для нас что-то везде. Каждый — в себе и рядом с собой, и тогда в конце концов все это личное и маленькое сольется в единое и всеобъемлющее и вторая, загробная наша жизнь навсегда уйдет.
Не все выиграют при этом; кто-то и проиграет, больше или меньше. Я, стоящий сейчас перед вами, могу проиграть многое: вы знаете, как я умирал. И если это в новой жизни повторится так, как уже было, скажу откровенно: мне очень жаль будет жизни. Но я не один в мире; рядом со мною есть люди, и им очень нужна новая жизнь — независимо от того, что сделается или не сделается со мной. И я готов на это, потому что это — самое малое из того, что я должен, обязан сделать; иначе мне снова придется произносить вот с этого места те слова, которые вы слышали от меня в прошлой жизни, а вам придется поднимать руки, присоединяясь к ним, ко мне, ко всему тому, что было. Хотите этого? Я — нет! Я чувствую, что становлюсь сильнее времени, его обратного течения, сильнее второй жизни. И хочу, чтобы так же почувствовал себя каждый из вас!..
Зернов чувствовал, что мог бы сказать еще многое. Однако, глянув на часы, убедился, что время его истекло. Он спустился в зал. Идти было тяжело, как бывает тяжело идти под водой, сопротивляющейся движениям. Он возвращался на свое место. Он смотрел на людей. Однако на него не смотрел никто. Все продолжали смотреть на трибуну, на которой он только что еще стоял. Они смотрели внимательно, словно ждали еще чего-то. Зернов удивился. Председатель встал и пробормотал что-то, чего Зернов не разобрал, и сам он тут же ответил что-то, машинально ответил, даже не поняв, что сказал. Он продолжал проталкиваться сквозь пространство к своему месту. А люди все еще глядели туда, вперед. Председатель снова уселся на свой стул и молчал. Зернов почувствовал, что страшно устал, что идти становится все труднее. Когда он подошел к своему стулу, у него было ощущение, словно он промаршировал километров тридцать. Он сел, тяжело дыша. В зале было молчание. Люди все еще смотрели на опустевшую трибуну. Президиум сидел неподвижно, и люди в нем тоже смотрели на трибуну, на которой никого не было. Председатель не вставал, словно совершенно забыл о своих обязанностях. Что случилось? Или его выступление так подействовало на них? Но ведь существует пока еще незыблемый сценарий второй жизни, и… Одним словом, Зернов ничего не мог понять. Молчание и неподвижность в зале длились еще минуты две-три. Потом председатель встал. Он объявил, что выступать будет Зернов, и предложил подготовиться тому, кто уже выступил перед Зерновым. Потом люди похлопали, и следующий оратор занял место на трибуне. Все пошло своим чередом. Что же, никто даже не заметил этих минут молчания — непонятного, ничем не объяснимого молчания?
И вдруг Зернов понял.
Молчание продолжалось эти несколько минут потому, что это было еще его время. Ему еще полагалось говорить. Глядя на часы, он понял тогда, что прошло десять минут, отведенных регламентом; он совершенно забыл, однако, что это было уже продленное время, перед тем как раз его основные минуты истекли, и председатель сказал ему об этом, и Зернов попросил продления. Вот это время продления он сейчас и использовал, а основное осталось нетронутым, и потому трибуна стояла пустой все время, пока он шел к своему месту, и усаживался, и сидел; все видели, что его нет больше, но время не позволяло им ничего другого. Но он-то, он сам… сошел с трибуны, хотя ему полагалось еще оставаться на ней и говорить — что угодно, хоть слова навыворот.
…Сошел с трибуны и пошел на свое место. И хотя идти было необычайно трудно, он все же смог сойти с трибуны, пройти по залу и сесть на свое место.
Это получилось ненамеренно. Просто Зернов был убежден, что его время истекло. Ему показалось, что необходимость заставляет его сойти и вернуться на место. А между тем, как оказалось, время, наоборот, должно было помешать ему. И мешало. Потому-то так тяжело было идти: как сквозь воду. Только он не сквозь воду проталкивался, а сквозь время. Преодолевал его сопротивление.