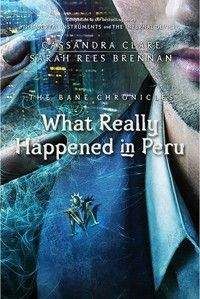Чингиз Айтматов - Тавро Кассандры
А разговор начался стремительно, как только Уолтер Шермет с наигранной раскованностью и даже жеманством произнес:
— Добрый вечер, брат Филофей! Извините, мы не знаем, так ли следует обращаться к вам?
— Да, так, — отвечал космический монах и добавил: — Всякому, кому угодно будет, я брат.
— А если не всем угодно будет брататься? — сострил Уолтер Шермет.
— Тогда кому как заблагорассудится. Не беда. Но и для тех, кто меня не приемлет, я в душе своей брат.
— Почему вы говорите об этом столь самоуверенно? Не хотите ли тем самым возвыситься над греховным миром нашим?
— Мое призвание — сострадать каждому, как бы ко мне ни относились.
— Допустим. Ну, хорошо. Не будем, однако, начинать нашу встречу с выяснения взаимо-отношений в этом плане, — продолжал остроумничать Уолтер Шермет. — Есть вещи куда как серьезней и, как вы, наверное, понимаете, куда как страшней, причем находящиеся в прямой связи с вами, брат Филофей, с вашей, так сказать, научной деятельностью на борту орбитальной станции. Поэтому, собственно, мы и собрались на пресс-конференцию. Да, но для начала я пред-ставлю вам публику. В зале — цвет журналистики. Идет прямая телетрансляция. Я ведущий, Уолтер Шермет. Рядом со мной — Энтони Юнгер. Он участвует в телемосте вместо футуролога Роберта Борка, погибшего сегодня утром в результате массовых волнений. Извините, приходит-ся называть вещи своими именами: причиной этих трагических событий явились именно вы. Впрочем, Энтони Юнгер сам представится и выскажет свое мнение.
— Спасибо, Уолтер Шермет. Я знаю Энтони Юнгера, — перебил его Филофей, устремляя взгляд в сторону Юнгера. — Я знаю Энтони Юнгера по предвыборному митингу, трансляцию которого видел. Поскольку я нечаянно перебил вас, позвольте мне сказать, я ждал этой минуты, этой встречи, возможности сказать о том, о чем вы уже упомянули, — как достигает меня в космосе пламя пожара, возгоревшегося в умах и душах. Да, огонь тот запалил я сам. Да, это так. Но факел я выносил не для сожжения еретиков на кострах, а, полагал, для просвещения душ людских. Не получилось. Все обернулось тьмой. И боюсь, безнадежно. А я надеялся, быть может, наивно в моем-то возрасте, конечно, наивно, что правда восторжествует. Ошибся. Вместо просветления душ повсюду вызвал лишь хаос и смуту. Все это я вижу на экране своего телевизора. Видел я и то, что произошло сегодня в Ньюбери. Я ожидал телевизионной встречи с Робертом Борком, был предупрежден о ней, горел душой перемолвиться с ним словом, но увидел дикую расправу с человеком в его собственном доме. Тот самый бунт, о коем русские говорят — бессмысленный и беспощадный. И опять же — по моей вине! Находясь в космосе, я оказался прямой причиной гибели моего же, Богом посланного мне единомышленника. Я на коленях перед вами, люди! Но сейчас мое покаяние ничто. Ничем не вернуть убиенного Роберта Борка, даже ценой собственной жизни, которую я готов немедленно принести в жертву. Если бы…
И вот что я еще хочу сказать, прежде чем отвечать на ваши вопросы. Возможно, я не успею ответить на все вопросы зала, заранее прошу прощения. Мне уходить, вам жить, а жить — значит, самим находить ответы. Поймите меня и простите, если можете. Единственное, что мне хотелось бы сказать напоследок: не ради громкой славы, не ради амбиций и не для превосход-ства над себе подобными сделал я общим достоянием свои открытия, которые могли бы остава-ться втуне, и мир наш пребывал был в счастливом неведении, как и до этого. Но не для того ли мы сотворены как смысл и содержание вечности, чтобы через постоянно совершенствующееся познание наше открывался нам мир, а иначе к чему быть мирозданию, с какой целью быть вечности, если она будет оставаться невостребованной и не осознанной нами, по слабости и по прихоти нашей уклоняющимися от истины, когда это нам удобно? Не снижаем ли мы статус разумных существ — ведь боги без нас не боги, материя без нас пуста. И если мы утверждаем, что информация — путь прогресса, то не в непрерывающемся ли потоке все новой и новой всеохватывающей информации суть вечности? Бесконечность цивилизации — в бесконечности познания. Но когда мы избегаем познания в угоду себе, то есть вопреки истине, не избегаем ли мы тем самым столь желанной нам вечности?
Я прошу прощения у присутствующих за абстрактные рассуждения по поводу, казалось бы, абсолютно конкретных обстоятельств, но сегодня, когда мы убили Роберта Борка, мы убили с ним часть нашей вечности. Простите меня, я хочу…
— Позвольте, позвольте, брат Филофей! — перебил его с трудом сдерживавший себя Уолтер Шермет. — Рассуждения о высоких материях, разумеется, хороши, философия вечности любопытна. Но ведь вы вмешались в таинство рождения, — я имею в виду ваши космические эксперименты, провоцирующие появление знака Кассандры у зачавших женщин. Вы оказываете недопустимое давление на наше Эго. Вы стремитесь поставить нас под свой космический конт-роль. А с этим, позвольте вам напомнить, мало кто готов на Земле примириться! Я напоминаю — на Земле, на грешной нашей Земле, и не судите обо всем с космической высоты, где вы не досягаемы для возмущенных людей. Совершенно справедливо возмущенных. Извините, что я обнажаю свою позицию. Но в данном случае не до условностей, не до этикета ведущего. И я не могу не выразить протеста против ваших деяний. Кто вам позволил, какая сила толкнула вас, какими бы благими намерениями вы ни руководствовались, ввергать жителей планеты в массо-вую смуту ради своих научных открытий, а я бы сказал, ради гордыни своей?! Не есть ли это святотатство, особенно если вы монах, пусть даже самозваный, как утверждают российские иерархи. Не идете ли вы против Божественных установлений?! Сказано в Писании — плодитесь и размножайтесь. И без всяких оговорок. А вы решили подвергнуть ревизии то, что не подлежит контролю кого бы то ни было. Не принесли ли вы таинство рождения в жертву адским силам? На мой взгляд, это именно так! И если мистер Ордок говорил об этом как политик, то я скажу как журналист, дорожащий мнением многомиллионной аудитории.
И тут поднялся шум в зале. Это было странное, диковинное зрелище: журналисты вскакива-ли с мест, рвались к микрофонам, размахивали руками так, как будто перед ними не телеизобра-жение, передаваемое из космоса, а сам Филофей на сцене. А он слушал их на экране, сжав губы и прищурившись, стараясь сохранять спокойствие.
Было видно, как лицо его свела судорога боли. И вряд ли эту встречу можно было называть пресс-конференцией. По разгулу страстей она ничем на отличалась от митинга. Каждый дорвав-шийся до микрофона лишь называл себя, свою газету, информационное агентство и тут же требовал космического монаха к ответу. И никаких философий, практика жизни превыше всего! Филофею не давали рта раскрыть. Должно быть, ему стало дурно. Он вдруг исчез с экрана. В зале поднялся переполох. Экран пустовал.