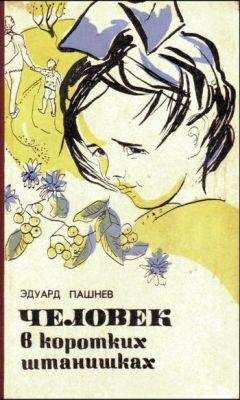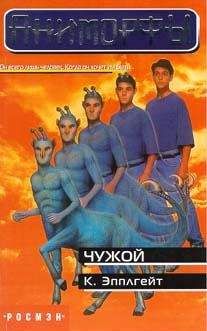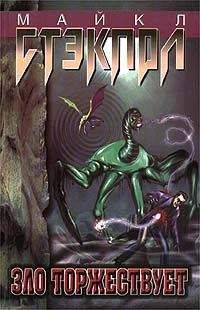Евгений Сыч - Ангел гибели
Через неделю или дней через десять на самой дохленькой, плюгавенькой минке, выведенной наружу из этой пещеры Али-бабы, подорвался старый пастух. Что-то привлекло его внимание, он потянул, а Стасик свою работу знал и делал безупречно. На взрыв прикатила «бетра», ребята вылезли посмотреть. Пастух сидел на земле, одну ногу совсем оторвало, другая болталась на жиле, и три пальца на руке как отстригло. Оставшимися пальцами он тыкал в землю рядом и бормотал что-то невнятное. Не стонал, не плакал, был в шоке. Ребята его даже не добили, пожалели. Развернулись и поехали дальше, через ущелье.
Сверху дорога казалась совсем узкой тропинкой. Горы стояли отвесно, а дорога змеилась, иногда пропадала из виду. Потом пропала совсем. Вершины сгрудились. В их теснине, где не было больше коридоров и расселин, Юрка увидел вдруг выбоину, и на ней Прикованного, распластавшего по камню бесполезные крылья.
Собственно, Прикованного Юрка увидел не сразу. Сначала — глаза, как два прожектора, вычленившие ангела из череды сопровождения и притягающие к себе. Боль и ненависть читались в этих глазах, и еще, возможно, стыд — за собственную неполноценность. Всесильный, он был несвободен. Известно, что слепые прекрасно слышат, у безногих чрезвычайно развиты мышцы рук. Наверное, могущество и несвобода тесно связаны, а может быть, даже взаимообусловлены. Да и что такое свобода? Всего лишь возможность делать лично то, что за тебя и так готовы сделать другие — только прикажи.
Издавна известно, что Всевышний свободен, а Злоначальный сидит на цепи, как сторожевой пес, прикован и терзаем. Он, конечно, отказался бы от власти, дай ему свободу. Но свободу никто никому не в состоянии дать.
В жизни Юрка знал многих, кто отказывался от свободы делать самому ради права приказывать другим. Между прочим, лукавый язык означил словом «приказчик» не того, кто приказывает, а того, кому выдаются команды. И многим прощались жуткие зверства, потому что прикрывались они приказом свыше. И никак не дотянуться до того, кто приказы отдает.
— Губитель? — спросил Прикованный с холодным равнодушием, которое никак не соответствовало огню, полыхавшему в огромных глазах.
— Ангел смерти, — поправил Юрка.
— Самолюбив, — усмехнулся Прикованный. — Что же тогда санитаром работаешь? Ты же убивать поставлен.
— Убивать? — вскипел немедленно Юрка. — А кого убивать? Может, тебя убить надобно? Так я готов.
— Верю, верю, — растянул Прикованный тонкие губы в усмешке. — Знаю, что убивать связанного ты научен. Или я путаю? Только успокойся, я тебя не затем звал. Посмотреть на тебя хотел.
— Много чести, — не унимался Юрка. — Но раз зазвал в этакую даль, смотри, любуйся. А я пока, — он вытянул руку и сгреб подвернувшегося черного, — этого, что ли, казню именем божьим.
— Да на здоровье, — совсем разулыбался Прикованный, а черненький в Юркиной руке съежился и повис испуганным зайцем. — Только всякое зло противно божескому порядку. Так что имя Его тебе ни к чему. На зло молящего Бог не слушает.
— Утомил, — сказал Юрка, разжимая руку. — Говорил бы сразу, что просишь, зачем звал.
— Посоветовать хочу: люби себя. Только себя люби, понимаешь? И всем, кому сможешь, объясни это. Любить нужно только себя.
— Не понимаю, — удивился Юрка.
— Поймешь, — сказал Прикованный.
И Юрка вновь попал в вязкое поле чужой мысли, чужой обиды и чужой боли. Любишь ли ты Бога? — спрашивал Прикованный. Сколько душ было растоптано из жертвенной любви к Христу! Сколько погибло мимоходом, когда шли страна на страну, род на род, стенка на стенку, возглашая: «С нами Бог!» И за Магомета шли тоже стенка на стенку. Возлюбленный Мао стоил обожествленного Гитлера и Сталина — отца народов. Как только главным становится лозунг любви — к Богу, Отечеству или нации, это означает, что человека не принимают в расчет. Что человек не имеет цены сам по себе, а ценится лишь степенью его любви, одобряемой свыше. Нельзя любить людей вообще, надо любить самого себя, свою семью, своего ребенка. Любовь, в которой массы участвуют в едином порыве, — отвлекающий маневр, чтобы свободно убивать и грабить.
— Но что я могу? — оправдывался Юрка. — Ведь люди не видят и не слышат меня. Я несу им смерть, а не любовь.
— Ты пойми и запомни, — настаивал Прикованный. — Когда тебе придется поднять свой меч, себя люби, а не Бога и не Идею, не человечество в целом, не людей вообще. Только так может спастись мир.
— Я подумаю, — сказал Юрка.
Он не успел еще далеко отлететь от толпы черных, как увидел знакомого беса. Бес явно набивался на встречу, и Юрка тормознул.
— Ты где пропадаешь, приятель?
— Вот, — с готовностью отозвался бес. — Материал для тебя подготовил. Досье. Все честь по чести.
— Какой материал? — переспросил Юрка, догадываясь, впрочем, о чем речь.
— Так сам же просил, — обиделся бес. — Убийц разыскать. Я старался. Ознакомить или разберешься?
— Разберусь, — сказал Юрка, протягивая руку. Бес немедленно всучил ему свернутый плотный, похоже, пергаментный листок, хотя Юрка отроду натурального пергамента не видел.
— Но всех — мне, — поторопился бес. — Ты обещал!
— Не суетись, — Юрка развернул свиток. На нем, как на экране монитора, немедленно возникли и побежали строчки:
«Гоглидзе Михаил Автандилович, продавец наркотиков, сутенер, перекупщик валюты. Стрелял по ошибке: ждал облаву. Не виновен».
«Суспицкий Вячеслав Михайлович, фарцовщик, заинтересован пещерой Али-бабы. Желал совместных действий, шагов предпринять не успел. Не виновен».
«Аминова Тамара Валиевна, сожительница Гоглидзе, присутствовала при убийстве. Помогала выносить покойного и уничтожать улики. Не виновна».
«Александрова Ирина Андреевна, проститутка, больна СПИДом, в покойнике не заинтересована, искала контактов с присутствовавшим Филом. Не виновна».
«Филипп Дж. Стоун, корреспондент, спекулянт, заинтересован в информации об Афганистане. Об убийстве не осведомлен. Не виновен».
— Постой-ка, постой-ка, — возмутился Юрка, потрясая листком. — Что же это получается? Никто не виновен, а меня пришили? Что же, сам я, что ли, виновен?
— А ты больше всех не виновен, — развел мохнатыми лапками бес. — Так ведь и тебя никто не винит, за тех, кого ты на войне убивал. Здесь ведь счет другой.
— Да за них бы меня и дома никто не винил, — вспылил Юрка. — Война есть война. Там и меня могли убить, одинаково.
— И так — одинаково, — успокоительно сказал бес. — Тем более, что тебе сейчас ничего не стоит у каждого из них душу вынуть и мне вручить. Верно же?