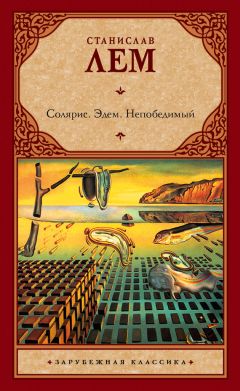Станислав Лем - Солярис
Через два дня, вечером, когда мы с Хари сидели в маленькой кухне, неожиданно вошёл Снаут. Он был в костюме, настоящем земном костюме, который его совершенно изменил. Он как будто постарел и стал выше. Почти не глядя на нас, он подошёл к столу, наклонился над ним и, даже не садясь, начал есть холодное мясо прямо из банки, заедая его хлебом. Рукав его пиджака несколько раз попал в банку и был весь перепачкан жиром.
— Пачкаешься, — сказал я.
— Гм? — пробурчал он полным ртом.
Он ел, как будто несколько дней у него ничего не было во рту, налил себе полстакана вина, одним духом выпил, вытер губы и, отдышавшись, огляделся налитыми кровью глазами. Потом посмотрел на меня и буркнул:
— Отпустил бороду?… Ну, ну…
Хари с грохотом бросала посуду в раковину. Снаут начал слегка покачиваться на каблуках, морщился и громко чмокал, очищая языком зубы. Мне казалось, что он делает это нарочно.
— Не хочется бриться, да? — спросил он, назойливо глядя на меня.
Я не ответил.
— Смотри! — бросил он, помедлив. — Не советую. Он тоже первым делом перестал бриться.
— Иди спать, — буркнул я.
— Что? Дураков нет. Почему бы нам не поговорить? Слушай, Кельвин, а может, он нам желает добра? Может, хочет нас осчастливить, только ещё не знает как? Он читает желания в наших мозгах, а ведь только два процента нервных процессов сознательны. Следовательно, он знает нас лучше, чем мы сами. Значит, нужно его слушать. Согласиться. Слышишь? Не хочешь? Почему, — его голос плаксиво дрогнул, — почему ты не бреешься.
— Перестань, — проворчал я. — Ты пьян.
— Что? Пьян? Я? Ну и что? Разве человек, который таскает своё дерьмо с одного конца Галактики на другой, чтобы узнать, чего он стоит, не может напиться? Почему? Ты веришь в миссию? А, Кельвин? Гибарян рассказывал мне о тебе до того, как отпустил бороду… Ты точно такой, как он говорил… Не ходи только в лабораторию, потеряешь ещё немного веры… Там творит Сарториус, наш Фауст ищет средства против бессмертия. Это последний рыцарь святого Контакта… его предыдущий замысел тоже был неплох — продолжительная агония. Неплохо, а? Agonia perpetua… соломка… соломенные шляпы… как ты можешь не пить, Кельвин?
Его почти невидящие глаза с опухшими веками остановились на Хари, которая неподвижно стояла у стены.
— О Афродита белая, океаном рождённая, — начал он декламировать и захлебнулся смехом. — Почти… точно… а, Кельвин? — прохрипел он, кашляя.
Я всё ещё был спокоен, но это спокойствие начинало переходить в холодную ярость.
— Перестань! — крикнул я. — Перестань и уходи!
— Выгоняешь меня? Ты тоже? Запускаешь бороду и выгоняешь меня? Уже не хочешь, чтобы я тебя предостерегал, чтобы советовал тебе, как один настоящий звёздный товарищ другому? Кельвин, давай откроем донные люки и будем кричать ему туда, вниз, может, услышит? Но как он называется? Подумай, мы назвали все звёзды и планеты, а может, они уже имели название? Что за узурпация? Слушай, пошли туда. Будем кричать… Будем рассказывать ему, что он из нас сделал, пока не ужаснётся… выстроит нам серебряные симметриады, и помолится за нас своей математикой, и окружит нас своими окровавленными ангелами, и его мука будет нашей мукой, и его страх — нашим страхом, и будет нас молить о конце. Почему ты смеёшься? Я ведь только шучу. Может быть, если бы наша порода имела больше чувства юмора, не дошло бы до этого. Знаешь, что он хочет сделать? Он хочет его покарать, этот океан, хочет довести его до того, чтобы кричал всеми своими горами сразу… думаешь, он не осмелится предложить свой план на утверждение этому склеротическому ареопагу, который нас послал сюда, как искупителей не своей вины? Ты прав, струсит… но только из-за шапочки. Шапочку не покажет никому, он не настолько смел, наш Фауст…
Я молчал. Снаут шатался всё сильнее. Слёзы текли по его лицу и капали на костюм.
— Кто это сделал? Кто это сделал с нами? Гибарян? Гезе? Эйнштейн? Платон? Знаешь, всё это были убийцы. Подумай, в ракете человек может лопнуть, как пузырь, или застыть, или изжариться, или так быстро истечь кровью, что даже же крикнет, а потом только косточки стучат по металлу, кружась по ньютоновским орбитам с поправкой Эйнштейна, эти наши погремушки прогресса! А мы охотно… потому что это прекрасная дорога… мы дошли… и в этих клетушках, над этими тарелками, среди бессмертных судомоек, с отрядом верных шкафов, преданных клозетов, мы осуществили… посмотри, Кельвин. Если бы я не был пьян, не болтал бы так, но в конце концов должен это кто-нибудь сказать. Кто в этом виноват? Сидишь тут, как дитя на бойне, и волосы у тебя растут… Чья это вина? Сам себе ответь…
Он тихо повернулся и вышел, на пороге схватился за дверь, чтобы не упасть, и ещё долго эхо его шагов возвращалось к нам из коридора.
Я избегал взгляда Хари, но вдруг наши глаза встретились. Я хотел подойти к ней, обнять, погладить её по волосам, но не мог. Не мог.
Успех
Следующие три недели были как бы одним и тем же днём, который повторялся, каждый раз точно такой же, как вчерашний. Заслонки на окне задвигались и поднимались, по ночам меня швыряло из одного кошмара в другой, утром мы вставали, и начиналась игра, если это была игра. Я изображал спокойствие. Хари тоже. Эта молчаливая договорённость, сознание взаимной лжи стало нашим последним убежищем. Мы много говорили о том, как будем жить на Земле, как поселимся где-нибудь у большого города и никогда уже не покинем голубого неба и зелёных деревьев, вместе выдумывали обстановку нашего будущего дома, планировали сад и даже спорили о мелочах… о живой изгороди… о скамейке… Верил ли я в это хотя бы на секунду? Нет. Я знал, что это невозможно. Я знал об этом. Потому что даже если бы она могла покинуть Станцию — живая — то на Землю может прилететь только человек, а человек — это его документ. Первый же контроль прекратил бы это путешествие. Станут выяснять её личность, нас разлучат, и это сразу же выдаст её. Станция была единственным местом, где мы могли жить вместе. Знала ли об этом Хари? Наверно. Сказал ли ей кто-нибудь об этом? После всех событий думаю, что да.
Однажды ночью я услышал сквозь сон, что Хари тихонько встаёт. Я хотел обнять её. Теперь только молча, только в темноте мы могли ещё на мгновение стать свободными, в забытьи, которое окружающая нас безысходность делала только коротенькой отсрочкой новой пытки. Она не заметила, что я проснулся, и, прежде чем я протянул руку, слезла с кровати. Я услышал — всё ещё полусонный — шлёпанье босых ног. Меня охватил неясный страх.
— Хари? — шепнул я. Хотел крикнуть, но не решился и сел на кровати. Дверь, ведущая в коридор, была прикрыта не до конца. Тонкая игла света наискось пронзала кабину. Мне показалось, что я слышу приглушённые голоса. Она с кем-то разговаривала? С кем?