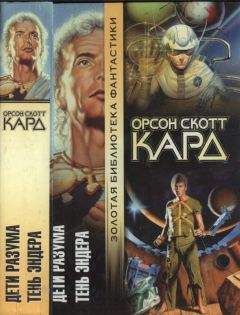Александр Громов - Запруда из песка
Радио молчало. С тех пор как я услышал сказанные моим оригиналом слова «попробуй мне только не вернуться», никто больше не пытался выйти со мной на связь. Меня бросили урезонивать, мне прекратили приказывать, но, похоже, не собирались и помогать. Гробанусь – тем хуже для меня. Живого Фрола Ионовича Пяткина взгреют, а он будет защищаться в том смысле, что не отвечает за бездушную железку. Кто ж его знает, какие изменения в психике могут последовать от перенесения человеческой личности в электронную форму. Может, Слепок вульгарно спятил – при чем тут я?
Он будет отбрехиваться агрессивно – и отбрехается. Я знаю. Сам бы поступил так же на его месте, и душевная черствость в данном случае ни при чем. Мы – я и он – просто-напросто достаточно рациональны, чтобы сознавать: мертвых не существует. Особенно если мертвец – простая копия.
У нормального земного паука уйма глаз, и все они помещаются на голове. Мое титановое туловище имело перед земным пауком определенное преимущество: два глаза на заду, пардон, в кормовой части. Очень полезная вещь, когда падаешь на поверхность Луны с большой скоростью задом наперед, ну а потом, уже перед самой посадкой, можно развернуться и обеспечить последний тормозной импульс носовым соплом. Так в теории. На практике никакой «паук» и никакая «блоха» еще не летали на Луне так высоко и далеко. Я немного волновался за приземление.
Кормовые глаза-телекамеры давали мутное изображение, на них явно осела мелкая лунная пыль и держалась цепко, хотя по идее должна была слететь при ускорении и торможении. Типичный огрех конструкторов, один из множества огрехов, просто-напросто остальные еще не «вылезли». Вот если я разобьюсь при посадке и если оставшийся от меня хлам будет изучен, то следующую модификацию «паука» инженеры снабдят противопылевыми заслонками или, может быть, стеклоочистителями и резервуаром с изопропиленом для омывания линз…
Почему молчит «Аристотель»? Мне бы сейчас очень пригодилась наводка на ту площадочку, что нашел Скворцов. Разгляжу ли я ее сам сквозь мутные линзы?
На руководителя программы у меня не было никакой надежды. Но где же Фрол Пяткин, почему он бездействует? Стушевался, позволил начальству подмять себя? Не верю.
Мне вспомнился один старый случай. На третьем курсе университета Фрол Пяткин стал не только сопредседателем студенческого научного общества, но и, по сути, заправлял всем в лаборатории физики сплошных сред. Половина ставящихся там экспериментов была так или иначе связана с его идеями, к двум третям экспериментальных установок он приложил свою руку, и звали его не иначе как Фролом Ионовичем. Начальник лаборатории, средних лет мужик по имени Парамон Родионович, сначала радовался, потом начал мрачнеть и наконец вызвал Фрола на разговор тет-а-тет.
– Вот что, Фрол Ионович, – внешне спокойно начал он, борясь с нервным тиком. – Мне кажется, что при вашей активности вы очень скоро сможете выполнять в лаборатории только одну функцию…
– Какую же? – насторожился Фрол.
– Функцию ее начальника. За лабораторию и направление я рад, но лично меня, как вы, наверное, понимаете, данное обстоятельство радовать не может. Пути наверх мне нет – поздно уже, – а опускаться вниз как-то не очень хочется. Перспективы перевода «вбок» тоже не намечается, да и привык я к лаборатории сплошных сред, душой за нее болею… Тогда как для вас, насколько я понимаю, заведование лабораторией – не предел мечтаний?
– Не предел, – сознался Фрол.
– Я потому откровенничаю с вами, что не думаю о вас плохо. Вы голова, а умам такой величины и такой активности обычно не свойственна тяга к подковерным играм. Что делать думаете? Немедленного ответа не жду, но проблему я перед вами поставил, и только вам решать ее…
– Я подумаю, – пообещал Фрол.
Он покинул лабораторию, но не сразу – сначала довел до ума одну установку и провел на ней серию экспериментов. Потом все-таки ушел в квантовую электронику, оттуда в оптику, а потом, к удивлению научного руководства, занялся теоретической астрофизикой и космологией. Его не понимали, а он просто купался в физике, как истомленный тропическим солнцем слон в первом попавшемся глубоком водоеме. Ему пытались втолковать, словно недоумку: чем занимается нормальный ученый? Бьется ли он над доказательством истинности гипотезы Берча и Свиннертон-Дайера, получает ли новые виды полимерной керамики, изучает ли каких-нибудь приапулид, до которых нормальным людям нет никакого дела и о которых они в своей массе и не слыхивали, – в любом случае он роет свою штольню. Поправка: в лучшем случае он роет свою штольню. Узкую-узкую. Иногда, довольно редко, удается соединить две штольни, тогда в месте их соединения подчас можно обнаружить нечто интересное и начать копать оттуда сразу десяток, если не сотню, новых штолен. Но сотню штолен будет копать тысяча человек. Или десять тысяч. Никому не справиться с прокладкой многих штолен зараз. Универсалы повывелись, вон они – на портретах в фойе университета. В науке их давно нет. Нельзя сказать, что они не нужны, – еще как нужны! – и все же их нет. Ибо никому не по силам.
Экономя время на бесплодных спорах, Фрол соглашался и продолжал гнуть свою линию. И еще: он жалел Парамона Родионовича. Будь у того чуть больше спеси, надувай тот щеки чуть сильнее – Фрол стоптал бы его, как слон букашку. Но что поделать – Фрол, он же Михайло, уважал скромных, хоть сам сроду таким не был. К тому же Парамон Родионович чем-то напоминал Нартова – хорошего механика, но никак не ученого, одно время поставленного управлять Академией, с чем он, по чести говоря, не справился. Михайло кое в чем поддерживал Нартова, а Фрол не затер Парамона Родионовича, скромного доцента, знающего свой «потолок» и не претендующего на большее, но влюбленного в свои сплошные среды. История повторяется.
Сейчас, однако, был не тот случай. И не тот человек стоял надо мной, чтобы я принимал его во внимание. Но мое биологическое «я», где оно? Почему молчит? Горная страна надвигалась на меня, с каждой минутой все резче обозначались в ней хребты, отдельные пики, пропасти, проявлялись мелкие кратеры и лавовые купола, а скоро, я знал, станут видны и отдельные глыбы… А связь все еще бездействовала.
Неужто Фрол предал меня?
Не верю. Возможно, ему безразличен я, но не то, что я привезу в своих электронных мозгах. Он желает мне вернуться. Он ждет сеанса слияния нетерпеливее, чем какой-нибудь молокосос ждет слияния с первой в своей жизни женщиной.
Значит, возникли проблемы. Что ж, есть хорошие шансы, что он их решит. Я его знаю.
И все же без точной наводки на цель мои шансы не так велики…
Пересчитав программу торможения, я объединил два тормозных импульса в один. Тряхнуло как надо, и все равно изображение осталось мутным. Проклятая лунная пыль осталась на линзах, как приклеенная. Вот мерзость! Ни у одного природного материала нет такой суммы гадостных свойств. Торопясь успеть к следующему импульсу, я отработал двигателями ориентации и ненадолго повернулся «лицом» вперед. Где же площадочка Скворцова?
Я не увидел ее. Хуже того, я усомнился в том, что падаю в нужный мне район. Однако падал, что было довольно противно.
– Вызываю «Аристотель», – подал я сигнал в эфир. Пусть не говорят потом, что я тупо самоубился, не предприняв никаких действий к спасению. – Кто-нибудь слышит меня? Фрол! Вызываю Фрола Пяткина…
Молчание.
Ладно, помолчу и я.
Теоретически площадочка Скворцова должна была находиться в пределах пятисот метров от вычисленной точки моего прилунения – достаточно близко, чтобы, подкорректировав траекторию двигателями ориентации, посадить себя как раз на нее. Теория – хорошая вещь. Плохо, что практика не всегда совпадает с ней.
Я еще замедлил падение. Потом еще, а когда до вершин лунных скал осталось не более сотни метров, завис и пошел по расширяющейся спирали. Подо мной проплывал воплощенный в камне тихий ужас; видимо, тот, кто отвечал за лунный рельеф, нарочно собрал именно здесь дикий хаос корявых скал и глубоких провалов между ними. Хоть бы один кратер – небольшой такой, несколько метров в поперечнике, но с ровным дном! Мне бы хватило. Но нет – как видно, кратеры по лунной поверхности распределял все тот же вредитель…
Подо мной проплывали остроносые пики, разделенные бездонными разломами, куда никогда не проникал солнечный свет и куда он никогда не проникнет, если только с Луной не случится какого-нибудь космического катаклизма. Надвигались и оставались позади лезвийно-острые, как каменные гребни на острове Кауаи, вершины скальных стен. Словом, куда ни кинь взгляд, везде дрянь, дрянь, дрянь… Ни одного, пусть крохотного, местечка, чтобы сесть, не покалечив «паука». Рельеф, будто специально выдуманный врагом или идиотом. Или враждебным идиотом. Но кто бы ни создал этот медленно ползущий подо мною ландшафт, чувство прекрасного отсутствовало у него в принципе. Можно прожить долгую жизнь и не встретить вторично такого же каменного безобразия.