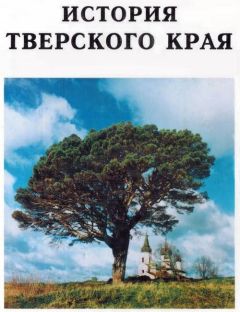Владимир Шибаев - Призрак колобка
Я прошел в анфиладу склада манекенов и рыцарей и обнаружил здесь фантастическую картину. Возле железного дурня, дровосека или капельмейстера, сбежавшего с оперы моцартовских времен, в жестяных фальшивых манжетах и деревянных башмаках, воткнутого между мраморной венерой без торса и головы и ящиком Пандоры с сушеными тараканами внутри – возле этих чучел стоял шизик Алеша и дул в небольшую флейту. А из нее, собственно из самой, лилась чарующая мелодия. Напротив на табуретах сидели зрители – Нюра, грустно склонившая плачущую голову, и слесарь Афиноген. Пожарник метро с отцовской гордостью глядел на музыканта.
– Вот, – крикнул в восторге пожарник, увидев меня. – Видал, чешет? Он и с пальцами может. Давай, отчебучь, Алеха. С пальцами, – и слесарь поиграл в воздухе толстыми короткими кочерыжками ладони.
И шизик вдруг ухватил флейту и с мельтешащей скоростью заводил по ней пальцами, глядя на слушателей с блаженной улыбкой. Флейта самозабвенно запела птичьей трелью.
– Ну ты видал, наяривает! Не чета вам, безгубым, – сердито обругал он меня. – А как еще на бубне стучит, а как шарады складывает.
– Откуда струмент? – поинтересовался я, думая, что еще за шарады.
– Вестимо. Вон у этого дундука железного из лап вынули. Почистили, ничего не свистело. А дали Алехе поиграться, как засвистит. Ну, буян! Баян. Верещит, как по-писанному.
Нюра отозвала меня в сторону.
– Слышь, Павлуша, тут такое дело. Финоген этого, слабого худого, закармливает консервой, конфектами. Где берет, не выведать. А мальцу вредно, ему едва за двадцать. С такого корму он скоро окочурится с непривычки. Ты бы вот… Здоровье дружка бы поберег, мы его тоже храним, пока к прессам не водим. Уже все встали, хошь лопни. Как бумагу сгребать – нету задумок. Ты.. вот чего. Поспрашивай у Финогена, где он харч схарчевал, где склад у его. Скажи, мол, уйдет Финоген по бойлерным, да сливы чистить, а малец кушать попросит. Чего тогда. Скажи: Финоген, Нюрке скажи, где схрон, она покормит, меру знает…
Я пообещал разведать, пошел по галерее и увидел гроб-механизм, где человек в черной тройке поднимает руку и гудит марш. Под шелковое покрывало к ногам, в схрон, я сунул свой рюкзак и отправился к Алеше. Мы с ним немного посидели и побекали. Толмач сюда не приходил. Все было ясно. Надо было подниматься и уходить.
Время до о-клока было в избытке, город стоял у меня поперек горла, и я взялся помогать Афиногену с хозяйством, по очистке бочек от старой извести, стараясь сохранить внешний вид.
Ровно в пять я вышел из музея и ровно в полседьмого без проблем добрался до спецпоселка олигафрендов и недоношенных. Конечно, ноги понесли меня к особняку Пращурова, хотя он мог быть в присутственных, важных местах: в телестудиях, на Избирательном Сенате, в конце концов у медицинских светил, которые, похоже, вливали в него здоровье пинтами.
Пращуров оказался дома совершенно один среди собак и принял меня мгновенно. Говорил он, вернее шептал, сопел и разевал рот значительно лучше, чем с телеэкрана, вот почему мысль об искусстве местных врачей забралась в мою голову. В кабинете, где он меня принял, сам в зеленом пушистом халате с драконами, стоял стол, на столе ополовиненная литровка коньяку, а также дырчатый сыр. И тихо лежал пистолет импортного образца с мощным глушителем. Хозяин плеснул мне полрюмки.
– Вот, Павлуха… Петруха, никому веры нет. И тебе веры нет. Хотел голос стравить, чтобы был ты полнонамочный гражданин. Куда-а… Вы все тут… жимолость… валерьяна без корней и стволов, – и он поглядел на оружие. – Даже ты… сам… и тот лыжанулся, скиснул… сдулся. Никому веры нет. Рано тут этот… кто… до голоса им еще жить да жить. Во тьме веков. Подкинутся… приканутся больными, и в куст. Орешины трушистые. Нет, Пращуров голос решил сдать… в утиль. Никому. Пускай эти теперь… порыгают… прыгают. Все, кишман-душман. Выбора ёк. Акополитический тухляк… тупик. Дура ты, Павлуха. А вот стой, стой.. щас еще плесну перед часом «Х». Вот, говори как отцу и брату, и голубю сизоры… крылатому. Голос возьмешь? Возьмешь за так? – и Пращуров встал напротив меня и страдальчески распахнул объятия.
– Нет, – ответил я. – Не надо. Пусть у вас будет, в сейфе. Вы человек надежный.
Пращуров прослезился, обнял меня и прошептал:
– Народ дурак. Хозява – подонва. Шавки – дворняги рвань. Соседи – убивцы. Ну и ты – дурак. Иди. Пращуров кончил. Собаки не тронут, я им погрозил.
Я нерешительно вышел из кабинета. Секунду стоял, как связанный. И тут же из кабинета грохнул выстрел, или громкий хлопок. В страшном волнении, в ожидании жуткого зрелища полностью разрушенной шеи я вновь распахнул кабинетную дверь и увидел Пращурова с бокалом и открытой бутылкой шампанского. Руководитель Сената состроил странную гримасу на белом искаженном лице над белой, убранной в алебастр поврежденной шеей.
– Что? Я же говорил, дурак ты.
На улице было зябко и неуютно. Дорогой до дома Тониной мамаши в голову лезли обрывки идиотских, болезненных сентенций:
«К чему все это… шампанское тоже убивает… имеют ли право голоса птицы… и к чему ведет ложь любимой женщине…»
Принаряженная, но несколько небрежная мамаша встретила меня у порога. Лицо у нее было помято кремами и благовониями, но все же прорывались через многослойную штукатурку цвета слез и бурных восклицаний.
– Идем, – приказала она. Тетка повела меня в сад, удивительно тихий в эту позднюю апрельскую пору, потом в оранжерею с сизыми кактусами и знойной магнолией, где вдруг сказала: – А я больше люблю Антониду, чем вы, – на что мне пришлось промолчать.
Возле конюшни с жеребцом тетка выдала сакраментальное:
– Растишь-растишь, а приходит жеребец, и нет молодой кобылицы в семейном стойле, – на что я все же решился взыграть уздцами.
– Да вы ее с детства кинули. В монашеские стойла. Она почти сирота.
– Да что вы знаете о матерях, – в отчаянии всплеснулась дама полусвета. – Материна любовь проникает через метровую кладку, как золингенский кинжал через венский торт. Материна любовь глушит колокола. Тюфяк ты!
Когда вернулись в дом, Антонида со следами зареванности на личике сидела у стола и мучила чашку с чаем.
– Присядемте, – галантно пригласила мамаша.
Я сожрал толстый кусок венского торта.
– Когда отъезжаете? – манерно выставила мадам мизинец над чашкой.
– Не планируем.
– Скажите ей, Петенька, – попросила моя подруга.
– В воскресенье, с утра, – нагло соврал я.
– И куда?
– В поездку.
– Далеко?
– Не то чтобы… Не знаю… Варшава, говорят, не очень то любезна с пришельцами из нашего края. Есть застарелая ненависть к тем, кому когда-то нагадили и оскорбили. В Париже теперь не очень, вон «голубые каски» батальонами попарно бегут к нам. За Монтевидео не поручусь.