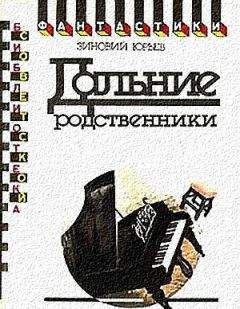Зиновий Юрьев - Бета Семь при ближайшем рассмотрении
Что делать? Что делать? Он уже преступник, что б он ни говорил, что б ни объяснял: он не доложил сразу о находке, он стоит в загончике и до сих пор не впал во временное небытие… И каждое следующее мгновение все утяжеляло и утяжеляло его вину. Он физически ощущал ее, как будто кто-то невидимый быстро накладывал на его плечи огромные камни. Они давили на него, прогибали, причиняли боль. Ему хотелось сбросить груз, столкнуть с себя какое-то дефье оцепенение, напрячься и разорвать липкие и холодные ленты страха, что так плотно спеленали его. Он не хотел, чтоб его проступок превратился в преступление. Он не хотел падать с еще необжитой высоты в низину безвестного равенства.
Но он все стоял и стоял с невыключенным сознанием и никак не мог решиться открыть главный канал связи. Пока он не доложил Творцу, он все еще начальник. А если доложит… Никто не видел его, никто во всей системе не знает про эту проклятую голову, что подбросили ему дефы. «Конечно, дефы, – подумал он. – Только этим тварям и придет в голову такое…»
В голову… Он вдруг решил, что докладывать не будет, и в ту же секунду понял всю нелепость решения. Завтра же, завтра же, когда он подсоединит свою голову, свою, а не этот проклятый шар на полу, к проверочной машине, легкими искорками проскользнут в нее особые импульсы, жадно помчатся по всем логическим схемам его мозга, пока не упрутся в мысль, в образ, в чувство, которые отличаются от заложенного в машину стандарта. И зазвучит сигнал тревоги, вспыхнут контрольные лампы, и кирд с соседнего стенда буркнет, даже не подняв взгляда: «Снимай голову…» И он покорно начнет откидывать защелки, и пресс вздохнет, разинет нетерпеливо пасть в ожидании очередной головы. Его головы. О великий Творец, что же делать, что же делать?.. Он поднял с пола голову. Знать бы, заряжена ли она.
В нем вдруг вспыхнула надежда. Крохотная, как искорка на проверочных клеммах, когда подносишь к ним тестер на стенде. Но другой у него просто не было. Ему остро захотелось прикрыть эту искорку руками, чтобы она не погасла, не оставила его лишь наедине с прессом. Если голова пуста – а она наверняка пуста, откуда может здесь взяться заряженная голова? – если она пуста, он попробует зарядить ее своим сознанием, не пропустив туда эти проклятые сомнения, и тогда сразу же доложит Мозгу. Не будет в голове сомнений, можно идти на проверив.
Теперь надо еще попробовать это сделать. Никогда не приходилось ему еще подсоединять голову к другой голове не на стенде, но почему-то ему казалось, что это получится. Обязательно получится.
Словно повинуясь какому-то наитию, он плотно прижал одну свою клешню к проверочным клеммам найденной головы, другую – к клеммам своей.
И тотчас же мир взорвался тысячами искр, погас, снова вспыхнул, закрутился, помчался в вихре. Четыреста одиннадцатому показалось, что стены загончика падают на него, вот-вот рухнет с грохотом потолок.
Он сжался, он стал совсем крохотным, и на него несся грозный поток; он подхватил его, начал швырять, с ревом ворвался в сознание. Он нес с собой вихрь образов, мыслей, воспоминаний. Мелькали страшные дефы, скалилось уродливое мягкое существо, с гулом вкатывалась в него ненависть.
«Надо сопротивляться, – вяло подумал он, – надо прервать контакт», – но никак не мог оторвать клешни от клемм, потому что уже не он управлял ими, а кто-то другой.
Какое-то время он еще сохранял самосознание, но оно не могло сопротивляться дьявольскому натиску чужих образов, мыслей и ненависти.
Он все еще пытался барахтаться в заливавшем его потоке, когда услышал:
– Я ведь Четыреста одиннадцатый.
Кто это сказал? Он этого не говорил. Он не мог этого сказать, потому что Четыреста одиннадцатый он, а не тот, кто по-дефьи вломился в его сознание.
– Я Четыреста одиннадцатый, – сказал он, но в этот момент два противостоящих сознания совместились наконец в одно.
Деф Четыреста одиннадцатый долго не мог прийти в себя. Этот идиот, его двойник, сравнивал надежду с крохотной искоркой. Нелепое сравнение. Она была неизмеримо слабее. Она могла, должна была погаснуть, не принеся с собой ничего, кроме черной пустоты. Но вопреки всему она разгорелась, и вот он стоит в своем загончике, держит в руках голову, и клешни его все еще судорожно прижаты к клеммам.
Он знал, что не дало угаснуть этой заведомо обреченной искорке надежды. Ненависть. Он был так полон ненависти, так она была спрессована в нем, что просто не могла исчезнуть в никуда.
Ладно, пора останавливать карусель в голове и начинать думать всерьез. У него был план, и его нельзя было оставить ни на минуту, он постоянно требовал внимания. План был одновременно прост и сложен. Конечно, он понимал, что при холодном анализе ситуации шансов у него немного. Ведь он был один, а враг был повсюду. Нет, не один, поправил он себя. У него была еще яростная ненависть. Вместе с нею он добьется того, о чем мечтал.
Если бы только план удался… Ненависть туманила мысленный взгляд, и он никак не мог рассмотреть будущее во всех деталях, но он знал, чувствовал, верил, что это хороший план.
* * *И у Мозга был план. Но в отличие от дефа Четыреста одиннадцатого ненависть не мешала ему спокойно просчитать все варианты. Снова и снова рассматривал он будущее, каждый раз слегка меняя составные детали плана. Это было увлекательное занятие. Он слегка поворачивал одну детальку и с интересом следил, как она цеплялась за две соседние детальки, поворачивала их. Те в свою очередь – следующие четыре и так далее, пока вся мозаика, из которой сложено будущее, не приходила в движение. Еще одно изменение, еще один вариант – и снова легчайший шорох тысяч поворачивающихся деталек.
План был хороший, и Мозг поймал себя на том, что рассматривает его уже не из-за необходимости улучшить, а потому, что созерцание совершенного своего детища доставляло ему удовольствие.
Пора было действовать. Он давно уже никого не допускал к себе в башню. Строго говоря, он даже не ассоциировал себя с этой башней, за толстыми стенами которой находилась огромная машина, которая и была им. Он не воспринимал себя этой машиной, хотя знал, что она является физическим носителем и хранилищем его разума. Он воспринимал себя в виде множества кирдов, в виде стражников, идущих в ночном патруле по улицам города. Он воспринимал себя одновременно городом, который создал, и духом, который давал ему жизнь и движение.
У него не было одного зрительного образа какого-нибудь места или события. Он воспринимал одновременно множество зрительных образов от кирдов, которые посылали ему информацию, поэтому видел мир во множестве измерений.