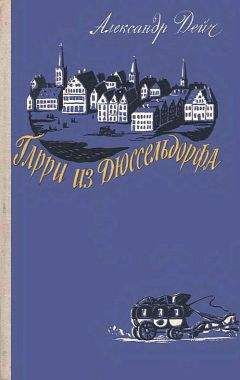А Дейч - Гарри из Дюссельдорфа
"Время очень уж гнусное, и тот, в ком есть сила и прямодушие, обязан мужественно вступить в борьбу с надутой, скверной и невыносимо кичливой посредственностью..."
Гейне задумал написать второй том "Путевых картин".
У него накопилось достаточно сюжетов и мыслей для этого, но нужно было сосредоточиться, уединиться, уйти от будничных забот и мелких огорчений, преследовавших его в Гамбурге. Кампе подбадривал поэта, говорил, что в литературе, как на войне, надо развивать достигнутый успех и, преследуя отступающих, приступом завладеть цитаделью врага. Издатель чувствовал, что интерес к Гейне растет. Он тщательно подбирал положительные и отрицательные отзывы о "Путевых картинах" и в кругу друзей похвалялся тем, что, подобно Колумбу, открыл новую Америку в лице Генриха Гейне.
Летом 1826 года Нордерней принял прошлогоднего знакомца. На этот раз Гейне нашел среди курортных гостей многих своих читателей. Были такие, которые презрительно отворачивались от "дерзкого писаки" и даже нс хотели с ним разговаривать. Но другие приветливо встречали Гейне и искали знакомства с ним. Не до всех доходил сокровенный смысл "Путешествия по Гарцу", для поверхностных умов это произведение казалось шутливоюмористическим. Поэтому Гейне порадовался, когда русский дипломат Козловский, отдыхавший на острове, сказал ему:
- В ваших произведениях, господин Гейне, шутка носит очень, очень серьезный характер.
Гейне помолчал и добавил:
- Пустая шутка для меня все равно, что умственное чихание или обезьянка шарманщика в красной курточке.
У каждой благородной шутки должна быть серьезная подмалевка.
Гейне не вел на Нордернее праздную жизнь курортных гостей. Когда головные боли не мучили его, поэт уединялся в рыбачьей хижине и работал; пристроившись у простого деревянного стола, выкрашенного в черную и зеленую краски, он раскладывал листы бумаги и писал.
Стол был низеньким, с неровными шаткими ножками, и, наверно, никто еще никогда не писал на нем ни одной строчки. Но Генрих обращал на это мало внимания. Ему столько хотелось сделать! Снова море, то прихотливо-бурное, то ласково-спокойное, влекло его к себе. Он как-то написал Кампе: "...^оре было так неистово, что я часто боялся утонуть. Но эта родственная стихия не причиняет мне зла. Она отлично знает, что я могу быть еще неистовее. И потом - разве я не придворный поэт Северного моря? Она знает также, что я должен еще написать вторую часть".
И он действительно писал вторую часть "Северного моря". Картины величественной природы: солнечные закаты, лунные ночи, вздымающиеся морские волны, исторические и мифологические видения - снова все это ожило в вольных размерах второго цикла морских стихотворений. Мысль поэта становилась смелее. Горькие раздумья о судьбе истерзанной и раздробленной родины проникали в эти стихи, поэт говорил о ничтожных немецких князьях, стригущих своих верноподданных, как баранов, о жалких "улитках", деятелях Союзного сейма, бессильного решать дела Германии и подчиненного воле жандарма Европы Мсттерниха.
И сердце поэта тосковало и обливалось кровью, потому что он горячо и страстно любил родину и мечтал возможно скорее увидеть ее свободной.
Как в зимний вечер усталый путник
Жаждет горячей, радушной чашки чая,
Так жаждет сердце мое тебя,
Немецкая родина!
Пусть вечно твоя благодатная почва
Рождает гусаров, плохие стихи,
Глупцов и скудоумные книжки;
Пусть вечно, вместо сухих колючек,
Питаются розами твои зебры;
Пусть вечно пребудут надменны и праздны
Твои сановные обезьяны
И пусть, раздуваясь от жира и спеси,
Себя считают выше и лучше
Всей остальной рогатой скотины;
Пусть вечно твои улитки, отчизна,
Своей медлительностью кичатся,
В ней полагая залог бессмертья;
И пусть в благородном своем собранье
Решают подсчетом голосов:
Считать ли сыром дырочки в сыре?
Пусть обсуждают высокие власти,
Как бы улучшить породу овец,
Чтобы снимать с них шерсти побольше
И чтобы могли их стричь пастухи
Всех без разбора;
Пусть вечно несправедливость и глупость
Тебя наводняют, Германия.
Я и такой тебя жажду сердцем...
В этих словах звучала горькая ирония. Мысль поэта вес время обращалась к будущему, когда свободолюбивые идеи одержат верх над косностью и раболепием немецкого мещанства. Поэт и назвал вторую часть "Путевых картин" - "Идеи". И прибавил к этому: "Книга Ле Граи".
Па Нордернее Гейне писал эту книгу, задуманную уже давно, еще в Люнебурге. Какая живость ума, какое богатство образов сверкали в "Книге Ле Гран"! Поэт обращалси к Эвслине, женщине, созданной его фантазией. Это был как бы обобщенный образ любимой - и Лмалип, и ее сестры Терезы, и Фредерики Роберт. С ней ведет лирическую беседу поэт, рассказывает о своем детстве, смешивая вымысел с правдой, называя себя то сыном далекой Индии, то признаваясь в том, что родился в рейнском городе Дюссельдорфе. "Книга Ле Гран" - тоже своего рода путешествие. Только не в пространстве, а во времени. Гейне вспоминает прошлое, и каждая подробность из дней детства поэта выписана с такой любовью и нежностью, что невольно волнует читателя. Вот маленькая каморка, и французский барабанщик Ле Гран учит мальчика Гарри великой музыке революции. Ритмы боевых песен революции звучат в "Книге Ле Гран", с ее страниц встает некогда любимый Гейне образ французского императора в треугольной шляпе и сером походном сюртуке.
Он прославлен поэтом, как сын революции, свергавший власть аристократов и попов. Юношеское увлечение Наполеоном отразилось, как в зеркале, в "Книге Ле Гран", и хвала свергнутому императору звучала как хвала свободе, равенству и братству, принципам, которые были начертаны на знаменах французской революции, потрясшей всю Европу. Нужно было гражданское мужество, чтобы во время европейской реакции поднимать на щит славные идеи свободы, равенства и братства. Гейне обладал этим мужеством и со страстью политического бойца и подлинного художника воспел эпоху революционных подвигов.
Какими мелкими и жалкими казались ему мрачные видения современности тупые и жестокие прусские офицеры и дворяне, робкие и бескрылые метане, немецкие цензоры, которых он без стеснения обозвал болванами и посвятил им главу, вместо текста состоявшую почти сплошь из цензорских многоточий...
Физически слабый, болезненный, поэт чувствовал в себе гигантские творческие силы. Он пел гимны неиссякаемой человеческой энергии, направленной не на убийство и уничтожение, а на добрые, благородные дела мира.
"Мне незачем ждать от священников обещаний другой жизни, - писал Гейне, - раз я и в этой могу пережить довольно, живя прошлым, жизнью предков, и завоевывая себе вечность в царстве былого.