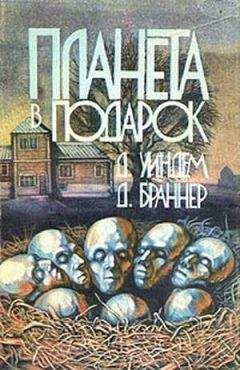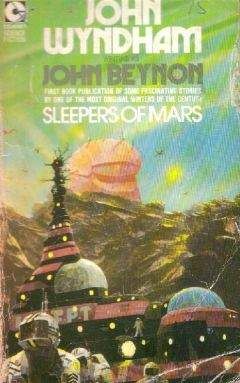Джон Уиндэм - Библиотека современной фантастики. Том 8. Джон Уиндэм
Я повернулся с ружьем наготове. Я был испуган, как Робинзон Крузо при виде отпечатка ноги, потому, что это не были неуверенные шаги слепого. Затем я уловил в сумерках двигающийся огонек. Когда огонек появился в саду, я разглядел фигуру мужчины. Видимо, он увидел меня еще прежде, чем я услыхал его шаги, так как он направился прямо ко мне.
— Не стреляйте, — сказал он, широко расставив пустые руки. Я узнал его, когда он приблизился на несколько метров. Он тоже узнал меня.
— О, это вы, — сказал он.
Я продолжал держать ружье наготове.
— Привет, Коукер, — сказал я. — Что вам здесь надо? Хотите поручить мне еще одну маленькую команду?
— Нет. Можете опустить эту штуку. Слишком от нее много шума. Я и нашел-то вас из-за нее. Нет, — повторил он. — Довольно с меня. Я ухожу отсюда к чертовой матери.
— Я тоже, — сказал я и опустил ружье.
— Что случилось с вашей командой? — спросил он.
Я рассказал ему. Он кивнул.
— То же, что с моей. И с другими, наверное. И все-таки мы попытались…
— Негодная попытка, — сказал я.
Он снова кивнул.
— Да, — признался он. — Мне кажется, ваша группа с самого начала взяла правильную линию… Только неделю назад она представлялась мне совсем неправильной.
— Шесть дней назад, — поправил я его.
— Неделю, — сказал он.
— Да нет же… А, черт, какое это имеет значение? — сказал я. — В общем, — продолжал я, — что вы скажете, если я объявлю вам амнистию и мы начнем все сначала?
Он согласился.
— Я ничего не понял, — опять признался он. — Я думал, что один только я отношусь к этому серьезно, и я просчитался. Я не верил, что это продлится долго или что кто-нибудь не придет на помощь. Но полюбуйтесь на это теперь! И так, наверно, повсюду. В Европе, в Америке, в Азии — везде то же самое. Если бы не так, они были бы уже здесь, помогали, лечили, чистили… Нет, я считаю, что ваша группа понимала это с самого начала.
Несколько секунд мы молчали, затем я спросил:
— Эта болезнь, эпидемия… Что это такое, по-вашему?
— Убейте, не знаю, приятель. Я думал, что это тиф, но кто-то мне сказал, будто тиф развивается дольше. Так что не знаю. И не знаю, почему не заразился сам… Разве что мог держаться от заболевших подальше и следить за тем, чтобы моя еда была чистой. Я ел только консервы, которые открывал сам, и пил только пиво из бутылок. Так или иначе, мне не улыбается торчать здесь дольше. Вы-то куда собираетесь?
Я рассказал ему про адрес, написанный мелом на стене. Он еще не видел эту надпись. Он как раз направлялся к Университету, когда услыхал мой выстрел, и стал с некоторой опаской разыскивать стрелявшего.
— Это я… — начал я и остановился. Где-то на улице, к западу от нас, послышался звук стартера. Мотор заревел и вскоре затих вдали.
— Ну вот, еще кто-то уехал, сказал Коукер. — Кстати, об этой надписи. Как вы думаете, кто ее мог оставить?
Я пожал плечами. Вполне возможно, что адрес оставил человек из нашей группы, который был захвачен Коукером и потом вернулся сюда. Или кто-нибудь из зрячих, кого Коукер упустил. Ведь определить, когда сделана надпись, было нельзя. Он подумал.
— Вдвоем нам будет лучше. Я пристроюсь к вам и посмотрю, что там делается. Ладно?
— Ладно, — согласился я. — Я за то, чтобы сейчас лечь спать и завтра выехать пораньше.
Я проснулся, когда он еще спал. Я вновь облачился в свой лыжный костюм и тяжелые башмаки, бросив неудобную одежду, которой снабдили меня люди Коукера. К тому времени, когда я вернулся с набором банок и пакетов, Коукер тоже был на ногах и одет. За завтраком мы решили, что поедем не в одном грузовике в поведем два — к вящей пользе обитателей Тиншэма.
— И смотрите, чтобы окна в кабине были закрыты, — напомнил я. Вокруг Лондона полно триффидных заповедников, особенно к западу.
— Ага. Я уже видел этих тварей в городе, — сказал он беспечно.
— Я тоже видел их, и притом в действии, — сказал я.
В первом же гараже, который нам повстречался, мы взломали бензоколонку и запаслись горючим. Затем, грохоча по улицам, как танковая колонна, мы двинулись на запад: моя трехтонка впереди, он за мной.
Продвижение было утомительным. Через каждые несколько десятков метров попадался какой-нибудь брошенный автомобиль. Иногда две-три машины полностью перекрывали дорогу, так что приходилось переключаться на первую скорость и сдвигать одну из них в сторону. Разбитых машин было немного. Видимо, слепота поражала водителей хотя и быстро, но не мгновенно, так что они успевали затормозить. В большинстве они сворачивали при этом к тротуару. Если бы катастрофа произошла днем, главные магистрали были бы совершенно забиты и нам пришлось бы затратить дни, чтобы выбраться из центра боковыми улицами, отступая перед непроходимой стеной машин в поисках объезда. Одним словом, продвигались мы не так медленно, как мне представлялось из-за нескольких пустяковых задержек, и когда я через несколько миль увидел впереди возле дороги перевернутую машину, я осознал, что теперь мы уже на пути, который прошли и расчистили для нас другие.
На западной окраине Стейнза мы ощутили, что Лондон, наконец, остался позади. Я остановил машину и пошел назад к Коукеру. Когда он выключил двигатель, наступила тишина, плотная и неестественная, нарушаемая только потрескиванием охлаждающегося металла. Я вдруг вспомнил, что с того момента, как мы тронулись в путь, я не видел, кроме нескольких воробьев, ни одного живого существа. Коукер вылез из кабины. Он стоял посреди дороги, вслушиваясь и оглядываясь. Потом пробормотал:
Вон там пред нами пролегают
Пустыни бесконечной вечности…
Я пристально посмотрел на него. Серьезное, задумчивое выражение на его лице сменилось вдруг ухмылкой, и он спросил:
— А может быть, вы предпочитаете Шелли?
Я — Озимандис, царь царей,
Взгляни, надменный, на мои труды и ужаснись!..
Пошли поедим чего-нибудь.
— Коукер, — сказал я, когда мы устроились на прилавке в магазине, намазывая мармелад на бисквиты. — Вы меня озадачили. Кто вы такой? В первый раз, когда я вас повстречал, вы занимались декламацией — вы мне простите это вполне подходящее слово? — на портовом жаргоне. Теперь вы цитируете Марвелла. Я не понимаю этого.
Он усмехнулся.
— Я тоже никогда этого не понимал, — сказал он. — Как и полагается гибриду: никогда не знаешь, что ты такое. Мать тоже не знала, что я такое, — во всяком случае она никогда не могла доказать, кто был моим отцом, и получить средства на мое содержание. Она вымещала это на мне, и я с детства был всем на свете недоволен. Кончив школу, я повадился ходить на митинги — все равно какие, лишь бы это были митинги протеста. Это свело меня с публикой, которая там выступала. Может быть, они находили меня забавным. Так или иначе, они стали таскать меня с собой на всякие политические сборища. Потом мне надоело, что я их забавляю и что мои слова вызывают у них этакий двойной смех, наполовину вместе со мной, наполовину надо мной. Я сообразил, что мне необходимо общее образование, какое имеют они, и тогда я сам посмеюсь над ними. Я поступил в вечерние классы и стал практиковаться в их жаргоне. Очень многие не понимают одной простой вещи. Если вы разговариваете с человеком и хотите, чтобы он принял вас всерьез, говорите с ним на его собственном жаргоне. Если же вы цитируете Шелли, но говорите, как простолюдин, они находят, что вы милы, вроде обезьянки у шарманщика, но на смысл ваших слов они не обращают внимания. Необходимо говорить на жаргоне, который они привыкли принимать всерьез. И наоборот. Половина политической интеллигенции, выступая перед рабочей аудиторией, ничего не может добиться — и не столько потому, что она стоит выше этой аудитории, сколько из-за того, что большинство ребят слушают голос, а не слова; они пропускают слова мимо ушей, потому что слова эти очень уж вычурные, а не обыкновенная человеческая речь. И вот я рассудил, что надо сделаться двуязыким и каждый язык употреблять в подходящей обстановке, а время от времени — вдруг и не тот язык не в той обстановке. Это действует без промаха. Чудесная вещь наша английская кастовая система. С тех пор я стал делать успехи в ораторском ремесле. Постоянной работой это не назовешь, но зато интересно и разнообразно.

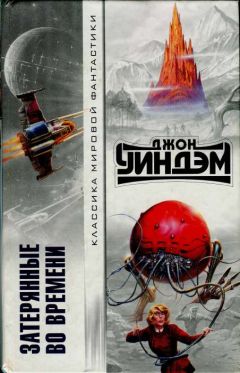
![Джон Уиндэм - День триффидов [День триффидов. Куколки. кукушки Мидвича. Кракен пробуждается]](/uploads/posts/books/59307/59307.jpg)