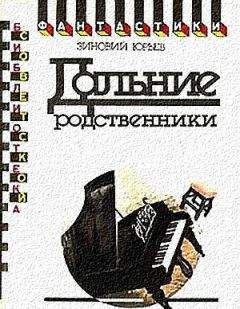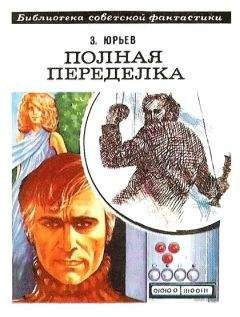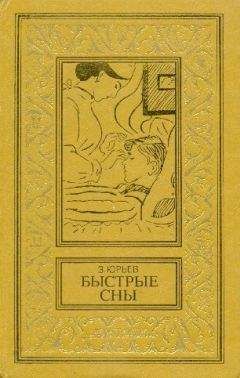Зиновий Юрьев - Повелитель эллов. Фантастический роман
— А что, может, это не такая глупая мысль, — лениво процедил Узкоглазый. И трудно было понять, серьезен ли он или подшучивает над Вертким. — По крайней мере не слышал бы твоих приставаний. Ты у нас один заменяешь целую Семью. Один ты все знаешь.
— Братья, — взмолился Первенец, — опомнитесь, прошу вас. Не успели вы получить имя в муках, о которых лучше не вспоминать, как уже накидываетесь друг на друга, как сурми, когда они шипят, стоя друг перед другом на задних лапках, и норовят вонзить друг в друга свой кривой шип. Подумайте сами, кем мы должны казаться Юурану. Он пришел из невообразимого далека, чтобы помочь нам, мы позвали его, а теперь схватываемся то и дело друг с другом. Скажи им, Юуран, скажи.
Что я мог сказать? Нет, не чувствовал я себя достойным судьей их споров. Им, им решать. Им думать. Жалеть или гордиться. Радоваться или страдать.
— Скажи, Юуран. Тебе легче видеть. Ты ведь не элл. Когда я заново рождался, когда корчился в муках, когда становился эллом с именем, меня поддерживала мысль, что пытки эти не напрасны, что откроется мне и другим новая мудрость, выше той, что мы знали в Семье.
И вот у нас есть имена, и мы легко швыряем в разговоре слово «я» и даже не содрогаемся, произнося его, и мысли наши стали свободны. Они уже не втиснуты в тугую общую упряжку Семьи. Их никто не ведет общим строем. Они свободно разбредаются в разные стороны, и никто, кроме нас, каждого из нас, не одергивает их. И что же? Мы презрели Закон, мы принесли в Семью смятение, насилие.
Может быть, наши страдания были напрасны? Может быть, нам надо проклясть корров, похитивших нас, якобы для нашего же блага, может, нам надо проклясть неживых, выпустивших нас на свободу, выпустивших наши мысли. Может, не нужна нам эта свобода, когда разбредающиеся мысли ранят мозг своими когтями, жалят шипами. Не знаю…
— Молчи, Первенец. Мне стыдно слушать тебя, — крикнул Верткий. — О чем ты жалеешь? О небытии?
— Не знаю… Да, Семья надевала на мысли упряжь, но зато снимала заботу, боль, сомнения… Скажи, Юуран, мы ведь позвали тебя, чтобы ты помог… Ты ведь из другого мира, где у всех есть имена, подскажи, пришелец, как нам быть.
— Мы на нашей Земле шли к мудрости трудными тропами. Часто кривыми, еще чаще опасными. И те великие и благородные умы, что учили людей мыслить, учили добру и мудрости, бесчисленное количество раз подвергались насмешкам, издевательствам, их побивали камнями и заточали в сырые темницы. И те, кто не хотел учиться мудрости и добру, прыгали от восторга, гоготали, показывали пальцами, орали: вот, смотрите, он призывает к добру, а сам хромой, ха-ха… Глядите, он говорит, что думает, ха-ха-ха, хорошо ему сейчас будет думать, когда палач выбьет из-под него опору и он запляшет на веревке, ха-ха… Мы, земляне, долго шли по тропе добра, братства и мудрости и дорого платили за каждый шаг, каждый поворот тропы и каждый ее подъем.
Теперь мы живем в светлом мире братства, но все равно каждый, каждый землянин учится думать, учится быть собой…
— Это значит иметь имя? — спросил Верткий.
— Да, можно сказать, так. Но это наш путь, мы оплатили его и никому не подсовываем его — будьте такими же. Мы уже давно поняли, что тропу к мудрости нужно выбирать самому и идти по ней самому. Самому, а не стадом, подгоняемым бичами пастухов и лаем злых овчарок. Плетью к мудрости не погонишь, лаем не воспитаешь доброту. К мудрости идешь сам, а не строем.
— Хорошо ты говоришь, красиво, — пробормотал Узкоглазый, — тропа к мудрости, конечно, вещь хорошая, но, боюсь, искать нам ее не придется.
— Почему? — спросил Верткий.
— Да потому, что мы не выйдем отсюда.
— Как это не выйдем?
— Очень просто.
— Мы заставили Семью нарушить Закон, и теперь она защищается. Она выкинула нас. Она закрыла от нас и общую мысль и выход из этой дыры. Закон, вернее уже не Закон, а обрывки, остатки его, еще живут в Семье. Иначе они бы затоптали нас, побили бы камнями, сбросили в провалы развалин. А так они затолкнули нас в эту дыру, и мы сдохнем здесь от голода, сами, без насилия.
— И что же будет? — вздохнул Первенец.
— А ничего, брат Первенец. Мы будем сидеть здесь, будем спорить о бессмысленных вещах. Потом, одичав от голода, мы будем лязгать зубами и кидаться друг на друга. А потом перестанем лязгать зубами и кидаться друг на друга, и все на Элинии будет идти своим чередом, и память о безумных эллах, что подняли руку на Закон, быстро вымоется из Семьи привычными, каждодневными заботами о сборе багрянца и чистке зеркальных стен. Юуран нам только что объяснил, что тропы к мудрости бывают разные. Будем считать, что наша привела нас в тупик.
— Нет! — крикнул Верткий. — Нет, нет, так легко я не сдамся. Не для того получил я имя, чтобы покорно ждать конца пути.
— Ну хорошо, — вздохнул Узкоглазый, — жди его непокорно.
— Но должен же быть отсюда выход.
— Пока вы думали всю ночь о высоких материях, я ощупал все стены. Они толсты, братья. Семье отвратительно насилие. Она предпочитает, чтобы мы сами разбили себе головы об эти стены…
Меня начал мучить голод, я привычно полез в карман за концентратами, но карманы были пусты. Мысли о пище потянули за собой мысли о воде, и я почувствовал жажду. Человек гибнет от жажды гораздо быстрее, чем от голода. Пока эти мысли были еще сравнительно спокойными: понятия «голод» и «жажда» еще относились к абстрактным понятиям, они пока что еще свободно циркулировали в мозгу, они еще не запекли губы и не затуманили сознание видениями пищи. Я понимал, что могу погибнуть, но не хотел еще всерьез думать об этом. Может быть, костлявая где-то уже бродила неподалеку, но не хотелось мне заранее смотреть ей в глаза. Не готов я еще был к концу пути, как здесь изящно выражаются. Уж слишком это нелепо: издохнуть от жажды или голода в каменной дыре в обществе трехглазых эллов за тридевять парсеков от родной Земли. С другой стороны, возразил я себе, всякая смерть нелепа, и испустить дух в своем круглом гелиодомике в подмосковной Икше нисколько, наверное, не нелепее и не лучше.
А может быть, подумал я, смерть на Элинии даже удобнее. Все здесь было немножко нереально, от трехглазых до неживых, и костлявая тоже покажется мне в последнюю минуту нереальной. Да и неизвестно еще, как она здесь выглядит и что у нее в руках вместо косы.
Ах, Юрочка, Юрочка, одернул я себя, легко думать о конце, когда в глубине души не веришь в него. Даже кокетничать тебе удается с костлявой.
Костлявая дрогнула в моем воображении и покатилась, и я понял, что нижняя ее часть не то ступа, не то шар, как у неживых. Это могло значить только одно — я уже спал.