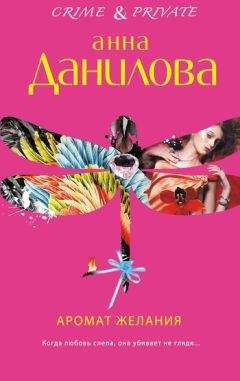Ольга Ларионова - Формула контакта
Мои Боги сытые, моя вера сладкая, мы-то успеем!
Мы-то обойдем тебя, мальчик мой, а чтобы сподручнее было обходить, сделаем один шажок назад.
— Впрочем, — сказал он, по-бабьи поджимая тонкие губы, — что это я — мальчик да мальчик. Вымахал ты, Инебел, ну прямо шест перевитый, с коим жрецы на уступах пляшут. У других, я замечал, длиннота чуть не все мозги оттягивает, а у тебя — ничего, даже слушать приятно. Занятно мыслишь, небезынтересно, я бы сказал. Научил я тебя кое-чему, не зря, значит, беседовал. Напоследок предостеречь хочу: не говори никому, что открыл ты истину, будто Нездешние Боги — это вроде бы люди, как вот мы с тобой. Не истина это, а просто мысль твоя. Мыслишь ты так, понял? Потому что с истиной ты должен бы наперед всего до Закрытого Дома бежать и первому попавшемуся Неусыпному ее открыть. А за сокрытие истины, видел сам, что бывает. Сперва пляски, потом фейерверк, а всему городу — вонь до утра. Об ощущениях самого героя святожарища я уж и не говорю. Так что забудь и слово это — истина. Мелькание мыслей у тебя. Глянь-ка на небо — во что облака летучие сложились?
Инебел послушно поднял черные, отененные синяками глаза.
— Вроде колос крупяной, распушенный ветром…
— Воистину! — обрадовался Арун. — А чуть погодя глянешь, там вместо колоса червь болотный. А еще погодя — червь изогнется да в непристойное пальцесплетение и сложится, и поплывет по светлым небесам здоровенный кукиш… Никогда не видал? Ну, мало жил еще. Мало вверх глядел. Так вот, в небе — это сплетение мокрых ветров, кои в отличие от сухих не голубые, а белые. Это каждому видно. А в голове у тебя сплетение мыслей, и, слава истинным Богам, это еще скрыть возможно. Вот и скрывай. Сейчас у тебя мысли так сплелись, завтра переплетутся этак. Никому они не видны, не нужны, не тягостны. И мне от них никакого урона нет. Моя вера от них не шатнется, не всколыхнется. И тем, кто со мной, от твоих мыслей нет убыли…
Молодой маляр все слушал и слушал, и по мере того, как певучий речитатив Аруна забирался все дальше в словесные дебри, его глаза сужались, становились жестче, недоверчивее.
— И сам ты мыслей своих не бойся, пускай себе вьются-стелются, укорот не им надобен — языку! Потому как ежели тебе язык укоротят, то уж вместе и с жизнью твоей, и не увидишь ты царства новой веры, справедливой, истинной, когда в довольстве и умственном просветлении начнем расширять наш город, когда по любви да согласию станут рожать наши жены, когда в Дом Закрытый буду брать я в подчинение не внуков да племянников худоскладных, а мужей, одаренных силой мыследеянья, ибо на них благодать Богов истинных! И тебе там место найдется, потому что в пышности и свечении постоянном должно содержать Дом служителей божьих. Вот задумал я, — доверительно, но вполголоса сообщил Арун, — от священных Уступов Молений и до начала улиц проход сделать, чтоб нога простого люда туда не ступала. А вдоль прохода изображения зверей диковинных двумя согласными рядами расположить, — у зверей туловища будут от свиньи лесной, а морды людские, и чтоб во все времена — на закате ли, на восходе — эти морды людские жевали непрестанно, — что ты на это скажешь?
Юноша безразлично промолчал.
— То-то — ничего не скажешь. Впечатляет! И волшебства никакого не надобно, говорят, под городом пещеры тянутся, оттуда и камень брали, когда Уступы возводили. Так вот туда я велю посадить преступников, на святожарище осужденных. Пусть себе день-деньской за веревки крученые дергают, а от того дерганья у зверей глиняных нижние челюсти взад-вперед двигаться будут, на манер «нечестивцев». Ты вот думаешь, зачем я тебе это говорю? А затем, что ты, маляр Инебел, мне этих зверей диковинных пострашнее распишешь, да не просто порошками водяными, а той самой смолкой несмываемой, за кою ты покрывала восьмиклеточного удостоился. Такой работы ни до тебя, ни после ни один маляр не удостаивался! А мысли твои мне ни к чему, не помешают они свиней глиняных искусно приукрашивать… А еще о погребениях: коли при жизни сытость и сладость как высшее благо почитаемы будут, то и о вечном покое позаботиться не мешает, — в нем тело усопшее тоже в достатке пребывать должно; но сомнительно, истинные ли яства в вечный путь взяты будут — не достаточно ли их изображения? А коли достаточно, то коим образом начертать их…
Аруна, очевидно, несло. Он не мог остановиться, может быть, в глубине души уже отдавая себе отчет, что давно говорит лишнее; но с другой стороны, он не хотел кончать свою тираду, потому что чувствовал: этот витиеватый словесный мосток — последнее, что связывает его с бывшим учеником. И вдруг он запнулся, выпрямляясь. На глазах пораженного юноши он становился все выше и выше, впервые в жизни теряя повсеместную округлость и за счет этого вырастая, точно гад-жабоед, выпрямляющийся из жгута собственных пестрых колец при виде добычи. Следуя за хищным взглядом его сузившихся глазок, Инебел оглянулся через плечо, стараясь и в то же время страшась разглядеть то, что так преобразило Аруна.
И не заметил ничего. Обиталище привычно и беззвучно кипело повседневным мельтешением двуногих и четвероногих своих жильцов, и даже там, куда незаметно подымались его глаза, хотел он этого или нет, даже там ничего с утра не изменилось.
Но Арун вскинул прямую, как палка, руку именно туда, к заветному гнезду висячей галереи Открытого Дома, и с ужасом и омерзением Инебел увидел, что рука эта, указуя вверх, закаменела в яростной неподвижности, и шевелилось на этой руке только одно — с сухим скрежетом выползая из кончиков пальцев, стремительно росли и вытягивались вперед желтые мертвенные ногти…
— Покорствует! Покорствует… — Арун захлебывался слюной, заплевывая ошеломленного и ничего не понимающего Инебела. — Покорствует Богам ложным!
Казалось, сейчас он попрет прямо на стену, как лесной зверь-единорог, и проткнет ее сложенными в щепоть пальцами, и двинется дальше, топча зеленеющую лужайку с нездешней нежной травой…
— Уймись, горшечник, — сказал Инебел. — Что ты беснуешься? Устал человек. Устал и прилег. И ничего больше.
Под внезапной тяжестью его рук Арун присел, мгновенно обретая утраченную было округлость всех своих членов. И ноги колесом, и руки едва-едва смыкаются под выпуклым сытым животиком… Улыбочки вот только и не хватает. Вместо того губы послушно складываются в кругленькое "О".
— Устал? Так-так. Человек, значит? Все может быть… Устал и прилег, значит. Это по твоей вере. Что человек.
Он топтался на одном месте, старательно принуждая себя улыбнуться, чтобы расстаться по-прежнему, добрым учителем и послушным учеником. Но вместо умиления последним зарядом рванула ярость, — даже непонятно, как только мог получаться гадючий шип, исходящий из круглого до идиотизма ротика.