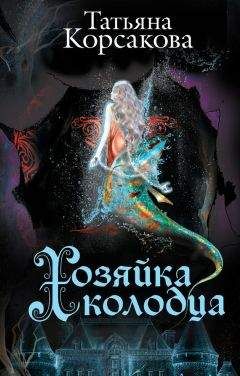Питер Морвуд - Иван-Царевич
Лес переходил в глухую чащобу, все меньше встречалось дубов да берез, все больше сосен да елей. А хвойный лес — не смешанный, тут все иглами усеяно, вот на земле ничего и не растет, нечем утробу набить. Иной раз на поваленных стволах встречались грибы, но все больше перезрелые, водянистые, на них и глядеть-то не хотелось, не то что есть. Как стемнело, он, памятуя про медведя, забрался на дерево, умостился, как мог, в развилке ветвей — тут никакой хищник его не достанет. Жестко, неудобно, зато надежно, как-нибудь уж дотянет до утра. Помолясь Богу о том, чтоб медведь иль кабан, коих в избытке в лесах русских, не догадались потрясти ствол да подрыть корни, натянул он повыше меховой воротник, нахлобучил поглубже шапку и забылся беспокойным сном.
Проснулся Иван-царевич с двумя тяжелыми думами: первая — что никогда еще не бывал столь голоден, и вторая — что спинной хребет его так скрючился, будто шея с крестцом соединилася. Втрое больше времени ему потребовалось, чтоб освободиться от цепких древесных объятий, нежели чтобы в них попасть. Выругался б, да устал сто раз одно и то же твердить. К тому ж и выспался он куда как худо.
Напился Иван водицы из ближнего ручья — от студеной воды в зубах заныло,ополоснул рот, лицо, руки, покуда сон с себя не согнал. Мысль о ягодах, да орехах, да кореньях, коими заманивают легковерных бабкины сказки, его покинула. В таком густом лесу, поди-ка, другая еда найдется, а сабля, слава Богу, при нем, чтоб ее добыть. Ну добудет, а после?.. Татары, как известно, едят сырое мясо, рубят его мелко-мелко, сдабривают разными пряностями, да соленьями, да яйцами... И тут, услыхав хлопанье крыльев, он задрал голову.
Говорят, сырые яйца полезны для здоровья. Кто пробовал, тому видней... Другие, напротив, уверяют, что яйца надобно непременно варить иль жарить, не то и захворать недолго. Но не было у него ни огнива, ни посуды, ни времени для стряпни. А желудок тем не менее заявлял свои требования столь чувствительно, что Иван готов был послать к черту здравый смысл, коли тот встал между ним и утоленьем голода. Сбросив толстый кафтан и саблю с перевязью, полез он опять на дерево.
Перед глазами взметнулся вихрь — то потревоженная птица вылетела из гнезда, хлопая крыльями, нацелив клюв и гортанно крича. Иван чуть прикрыл глаза от перьев, сыплющихся на голову, и полез дальше. Он уже видел в прищуре гнездо, что прилепилось меж двух ветвей, точь-в-точь как сам он прошлой ночью, и даже мнилось ему, что видит он недовысиженные яйца. Подбираясь к гнезду, мечтал об одном: чтоб не были те яйца готовы проклюнуться. Может, древние римляне и ели множество странных кушаний, но ему завтрак из нерожденных птенцов не по вкусу.
Вдруг вернулась птица-мать. Он зажмурился, ожидая, что станет она когтить ему голову иль глаз выклюет, но та вдруг уселась на его указательный перст, накрепко вцепившись в него острыми коготками. И он, открыв глаза, удивленно уставился на нее. Птичка немногим крупней дрозда, но такие угольно-черные глаза видал он только у малиновок, а темно-коричневое оперение скрашивал желтый хохолок, что посверкивал золотом, когда птица трясла хвостом и крылышками.
Заглянул Иван в глазки-бусинки и прочел в них больше, нежели можно было ждать от обыкновенной птицы. Вот такой ум светился в глазах Кощеева коня, отчего зародилось у Ивана подозрение, что птица наделена тем же волшебным даром.
И он не ошибся.
— Иван-царевич! — пропищала птичка. — Смилуйся, пощади моих нерожденных детушек!
Привалился Иван к шершавому стволу, обхватил его покрепче коленями да вдобавок рукой обнял, не то полетел бы вниз, как эта птица. Пускай он ждал такого исхода, а все же вздрогнул, услыхав, как птица говорит по-человечески (три говорящие птицы, что приходились ему зятьями, в счет не идут, ведь нельзя же в самом деле причислять их к обычным лесным пернатым). А у этой голос вроде и птичий, словно бы кто для забавы обучил ее выговаривать человеческие слова, хотя тому, что не она сказала, так просто не выучишься.
— Сударыня птица, — отвечал он как можно вежливее, — невдомек мне, откуда вам имя мое известно, да и заботы нет, ведь я уж два дня маковой росинки во рту не держал.
Птица повернула к нему сперва один глаз, потом другой.
— Ты дольше без пищи проживешь, нежели дети мои, коль они тебе в пищу пойдут.
Умно подмечено, спору нет, думал Иван, однако мудрыми речами сыт не будешь. Он опять покосился на гнездо. Птица запищала, захлопала крыльями, ровно змею хотела отвлечь. Он, конечно, не помедлил бы слопать яйца, не будь ее рядом, но поглощать детей у матери на глазах не решился.
— Бог с тобою! — проворчал он и стал слезать с дерева. Птица вилась над ним, благодарила и благословляла, Иван уж устал от ее писка. В довершенье она уселась ему на плечо и в ухо клюнула.
— Ты спрашиваешь, откуль мне имя твое известно?.. Иван-царевич — имя знаменитое. И за доброту твою отплачу, когда менее всего ожидать будешь.
Зашелестев крыльями, она исчезла в гнезде: и так слишком долго оставались яйца без материнского тепла.
Иван долго глядел вверх, почесывая в затылке. Наконец поднял с земли кафтан да перевязь и дале на восток тронулся.
Шел он, шел, вдруг увидал под кустом спящего волчонка. Гладкий волчонок, откормленный. Годится в пищу, скажем, китайцам, что расселились меж Белой и Золотой Ордой — по слухам, очень уважают они собачье мясо. С голодухи Иван-царевич тоже отведал бы: сумеет огонь развести — хорошо, а нет — и сырым не побрезгует. Волчонок, будто почуяв мысли его, заворочался и сладко зевнул. А после перекатился на жирненькое брюшко да и засопел опять. Притаился Иван в густой траве и тихонько вытащил саблю.
— Пощади, Иван-царевич, моего детеныша, — раздался над ухом тягучий голос, и огромная лапа опустилась на саблю, вдавив ее в зеленый мох.
Иван саблю выпустил, отполз подальше и лишь потом глаза поднял.
Русские волки серые числятся средь самых крупных в мире, не иначе в далекие времена приходились они сродни слонам и бивни имели. Высунутый язык волчицы алым ковром стелется, в глазах желто-зеленых утонуть впору, ежели острые клыки не помешают тебе туда глянуть.
— Доброго дня вам, сударыня волчица, — вежливо приветствовал ее Иван.
— Здравствуй, Иван-царевич, — отвечала волчица все тем же низким, тягучим голосом. — Оголодал, поди.
— Как волк, с вашего дозволения.
— И всего-то два дня не ел? — усмехнулась волчица, обнажив белоснежные клыки. — Попробуй середь зимы неделями ничего не есть, окромя снега и льда, вот когда с волком сравняешься. А покамест желудок твой царский просто-напросто опустел маленько.
— Да знаю...
— Нет, не знаешь, и дай тебе Бог никогда не узнать. — Она повернула клыкастую морду к волчонку, потом на саблю покосилась. — Так помилуешь сына моего?