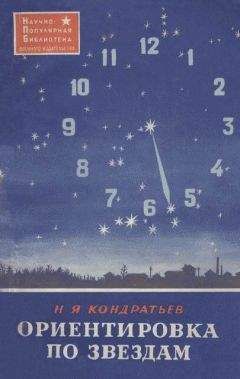Курт Занднер - Сигнал из космоса
В тот же вечер почтальон доставил мне телеграмму. Она была отправлена из Ганновера и содержала следующие слова:
"Простите меня. Я больше не мог. Крюгер".
И все. С телеграммой в руке я застыл на месте. Мрак вокруг сгустился еще больше. Теперь я остался совсем один.
В больнице на меня повеяло ветром перемен. Чувствую, что в моем положении должны произойти какие-то изменения. В хорошую ли сторону или в дурную — пока решить трудно, Полчаса назад у меня побывал с генеральным обходом профессор в сопровождении доктора Бендера и сестры. Меня обследовали с необычайной тщательностью. После этого подробного осмотра профессор обратился ко мне в сухо официальном тоне, словно читал печатный циркуляр:
— Как вам, может быть, известно, господин доктор Вульф, каждое лицо, помещаемое не по своей воле в заведение данного типа, должно по истечении определенного срока подвергаться повторной медицинской проверке. Я уже поставил в известность полицейского врача и органы власти, с чьей санкции вы сюда направлены, что, по моему мнению, указанный срок для вас уже истек, а я со своей, стороны как раз в вашем частном случае отнюдь не склонен ни нарушать норм закона, ни расширять рамки отпущенных мне прав.
Старший врач доктор Бендер стоял рядом со своим шефом, и у него было такое выражение лица, будто он только что хлебнул уксусу. Я напряженно ждал, что скажет профессор дальше, но он уже повернулся к двери со словами:
— К сожалению, сейчас у меня нет времени для более подробных объяснений. Сегодня к нам поступили очень тяжелые больные, которыми предстоит теперь заняться; затем у меня лекция. Вечером, скажем часов в шесть или в семь, я к вам зайду еще раз.
Процессия удалилась в обычном строю, и я, оставшись один, смог предаться, размышлениям. У меня определенно создалось впечатление, что профессор не хотел откровенно разговаривать в присутствии доктора Бендера и сестры. Я готов был биться об заклад с кем угодно, что вечером он придет один.
Чем глубже я во все вдумывался, тем яснее становилась мне общая связь событий, но один пункт все же оставался по-прежнему неясным. Не вызывало сомнений, что по многим причинам лучшим исходом представилось запрятать меня туда, где я сейчас находился. Но как объяснить тогда всемерное облегчение мне условий? Ведь я же сам своими нелепыми поступками — должен в этом покаяться — подал им достаточный повод меня сюда запрятать. Маневр этих господ удался им даже лучше, чем они рассчитывали. Как ополоумевшего упрямого индюка, загоняли они меня в клетку, терпеливо похлопывая в ладоши, и вполне успешно достигли своей цели. Их торжество злит меня сейчас не меньше, чем моя собственная непростительная слепота: даже при самой минимальной проницательности надо было мне вовремя заметить, куда они гнут!
Единственным оправданием мне служит лишь то состояние духа, в котором я тогда находился: Янек исчез, и я со стыдом должен признаться, что так и не поинтересовался его дальнейшей судьбой. Моя бедная жена претерпевала страдания и унижения; в Грюнбахе почти все перестали с ней кланяться; ей, дочери уважаемого государственного чиновника, это доставляло невыносимую муку. Крюгер исчез… В институте на меня завели дисциплинарное дело… Но хуже всего было то, что мои исследования прервались на неопределенный срок и мне ничего не оставалось, как отчитываться перед собственной совестью в совершенных ошибках и промахах.
За последнее время сигналы вообще перестали быть слышны. Может быть, неведомые существа отчаялись добиться ответа с Земли и потому отказались от дальнейших попыток связаться с ней? Или потеряли надежду сделать свои сигналы понятными нам? Или, наконец (это кажется мне самым вероятным), они направили свои передачи в иные сферы космоса? Словом, я их больше не слышал — они оставили меня в горьком одиночестве, так что поводов для хорошего состояния духа у меня не было.
Хорошенько обдумав положение, я решил попытаться спасти то, что еще можно было спасти, и привел в порядок все свои записи. С ними я намеревался поехать к моему старому учителю, обо всем ему рассказать и спросить совета — что же делать дальше. У него еще сохранились давнишние связи с крупными учеными во всех странах мира; он состоял почетным членом многих научных обществ… Субъекты вроде репортера из "Майницкого Меркурия" могли поносить его сколько угодно, но в мире науки он пользовался огромным уважением, перед ним просто преклонялись, никто не осмелился бы на него замахнуться. Облаять из подворотни — на это еще отважились бы, но на большее вряд ли. На протяжении многих лет я не поддерживал с ним никакой связи, даже не поздравил с днем восьмидесятилетия, но был твердо уверен, что он не поставит мне это в вину, если я явлюсь к нему лично и расскажу про свою беду. Его человеческие достоинства — я это знал — не уступали его таланту ученого. В отличие от меня, признался я себе в порядке горькой самокритики.
От Британского королевского общества ответ пришел неожиданно быстро. Свое письмо я написал, и, наверное, с ошибками, на английском языке. Мне ответили тоже по-английски. Письмо безупречно вежливое, но скептическое. Вот как оно звучало в переводе:
"Благодарим вас за ваше сообщение. Оно нас чрезвычайно заинтересовало, и высказанные в нем положения, безусловно, заслуживают всяческого внимания. К сожалению, оно оставляет ряд вопросов открытыми, а между тем ответы на эти вопросы представляются абсолютно необходимыми. Поэтому мы позволяем себе остаться при мнении, что окончательную ясность в затронутые вами вопросы может внести лишь их совместное обсуждение с учеными — специалистами в данной области. Если вы пожелаете, мы готовы сообщить вам фамилии и адреса этих господ. Но нас обрадовало бы еще больше, если бы вы смогли прибыть к нам лично и выступить с сообщением о ваших открытиях перед кругом заранее назначенных членов нашего общества. Если по каким-либо причинам у вас возникнут трудности с получением въездной визы, покорнейшая просьба обратиться в наше консульство. Мы со своей стороны предприняли бы тогда все возможное…".
Короче говоря, ответ прозвучал, как слова из Фауста: хоть услыхали они весть, но им недоставало веры! Как известно, этой нации свойствен трезвый реализм в оценке жизненных явлений, и я не остался в претензии за скептицизм, проявленный англичанами по моему адресу. Ведь именно в науке и в научных исследованиях, как ни в чем ином, решают дело лишь неопровержимые факты. И как могли бы они поверить какому-то неведомому доктору Вульфу, так сказать, с первого стука в дверь? Ведь он вполне мог оказаться всего лишь сумасбродным фантазером. Будь я профессором с громким именем, тогда все выглядело бы совершенно иначе. Может быть, и в этом отношении мог бы помочь мой старый учитель. На путешествие в Англию имевшихся у меня в тот момент денег, конечно, не хватало, но до Бодензее я добраться мог. Положим, лишь в' том случае, если в ближайшие дни почтальон принесет мне жалованье, которое на этот раз чтото запаздывало.