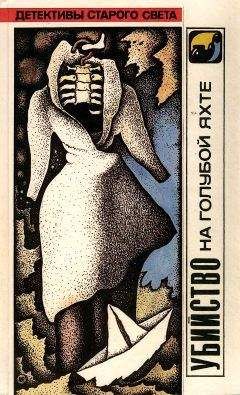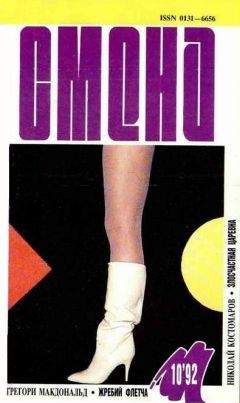Брайан Олдис - Босиком в голове
Все той же куклой непослушно ноги переставляя одна к другой и дальше к жестяному ложу холодное одеяло Чартериса нет и нет уже давно. Она присела на краешек кушетки и кряхтя разулась. Куда это он утопал? Бесплотный звук не дождь не лепет снега не вздох собаки лица ее коснулся и снова давешние гонки трасса грот наполнился куклами с голубыми глазами. А может, то крадется несносный Руби Даймонд?
В углу калачиком сопящим на разбитом кресле Марта.
— Шла бы ты спать!
— Мне жаба не дает!
— Что ты несешь! Ложись, говорю тебе!
— А как же жаба! Она все мое зерно повытаскает, а эти поганки, они такие скользкие, что…
— Да замолчишь ты когда-нибудь! Тебе все это привиделось!
Спи!
Уложила ее и прикрыв глаза тончайшим шелком век легла сама пустилась в путь босая Леда летняя поляна и лебедь нежно-нежно струны…
Так день за днем. Чартерис собирал огромные толпы и говорил с ними до бесконечности, не зная усталости, о сне забыв, паря на диковинных крылах своей фантазии. Голод в Бельгии, дурные вести из Германии, два дня, три дня. Он сидел с банкою фасоли, которую принесли ему верный Кассий и друг его Бадди Докр, рассеянно накалывая фасолинки на вилку и опуская их в рот, едва заметно улыбаясь, одним ухом слушая учеников своих, силящихся вернуть ему то, что даровал он им его учение.
Насытив себя, медленно поднялся и медленно пошел, обходя разговоров воронки своею сетью рыбин-мыслей извлекая из них сплетая сеть иную. Глад и мор сегодня все поджары он преподжар как потопает капитану разноречивость — направлений гнездо воронье их голов их невмонов. В прогулке сей была и известная умышленность — весенние ветра могли раздуть пожар в их душах попаляя ту малость которою они пока владели он желал им блага недвижных трое. суток или даже три недели своеобразный цирк для аборигенов что приносили им вино одежду и порою хлеб.
Недвижно Чартерис стоял, а ветер разметал его власы.
Кассий нежно, едва ли не поет:
— Учитель, сей вечер наш нам боле не придется влачить то жалкое отныне огни Брюсселя светят только нам фильм город на колени — и что это за город! Мы почву подготовили прекрасно здесь у вас уже сотни последователей. Дальше можно не ехать, вам будут рады здесь всегда ваш достославный Иерусалим навеки.
Порою не все говорил и он. Подумал про себя: «Я вижу. указатель поворот на Франкфурт и потому как только рассветет мы оставим это место в конце концов мы не бельгийцы. Как Кассий туп — неужели он не понимает, что остановка равносильна смерти? Не иначе он замыслил что-то. Он слеп «бедняга»».
Ни Кассий, ни Анджелин не привыкли жить в присутствии истины, о Бадди и говорить нечего. Он прикрыл глаза и увидел перед собою свирепых кроманьонцев, охотящихся на неповоротливых неандертальцев — они загоняли их и тут же убивали, — но не ненависть и не природная жестокость тому причиной, просто так уж устроен мир. Не открывая глаз, он произнес: «Допсиходелики должны покинуть наши пещеры — долины принадлежат нам и никому боле.
— Пещеры? Да в нашем распоряжении целый город будет, Учитель! — заорал слепой Кассий. Он, как и прежде, ничего не понял, но были здесь и те, кто видел: слово его быстро разнеслось повсюду волнами мысли и под цитру запело. Слово.
Оставив учеников, он вернулся под колышащийся свод в свой полудом, где Анджелин спиной сидела к свету.
— После фильма ты тронемся, об этом говорит все.
Молчит, не поднимает глаз.
— Открой себя всем ветрам на свете, и тогда тебя понесет в нужную сторону. Наш выбор состоит только в этом, слышишь?
И тут же эхом рев мотора — один, другой, множество машин разом, гарь, синеватый дымок. Машины оживают.
Не поднимает глаз молчит.
— Ты ведь просто убегаешь, Колин, — ты ведь просто не хочешь посмотреть в глаза истине, ты от себя самого бежишь — скажешь не так? Это нельзя назвать правильным решением — ты делаешь все это потому, что прекрасно знаешь: все что, я сказала тебе о Кассии и прочих, это правда, а тебе хотелось бы, чтобы все было иначе!
— После этого фильма, после всей этой лести нам не остается ничего иного, как двинуться в путь не раздумывая.
Порывшись в карманах, достал спички и полуприкурил полупотухшую сигару, на плечах старая драная меховая куртка.
Она измученней, чем он, ему в лицо:
— Да это же он сделал, Кол! Он! А тебе я смотрю все равно. Тебе говорят о мафии а ты этого словно и не слышишь. Из-за него Марта погибла, а ты ведешь себя так, словно этого не понимаешь! Ты ведешь себя так, словно другие люди тебя не волнуют, есть они или нет их, тебе все равно! Тебе лишь бы ехать!
Сквозь трещину в стене недвижно смотрит. Люди в трансе.
— Здесь ловить нам нечего, берем мой фильм и вперед! Откроем для себя все города на свете! Почему ты не танцуешь, Анджелин?
— Фил, Роббинс, теперь еще и Марта — если и дальше так пойдет, скоро ты один останешься! А может быть, на очереди ты, а, Кол?
— Сигара отказывалась гореть. Он швырнул ее в угол и направился к провалу древнего проема.
— Энджи, ты жуткая зануда, ты живешь вчерашним днем! Марта могла накачаться чем-то не тем, случается и такая вещь, как передозировка, — в твоем возрасте такие вещи надо знать. И еще. Просто так это никогда не бывает. Латентная смерть — так это называется, она отправилась туда, куда и хотела. Это, конечно, же скверно, но что с этим можно поделать — судьба есть судьба. Мы старались сделать все от нас зависящее, но это было уже не в наших силах — ты понимаешь?
Лежит недвижно, бездыханна, холодна, недвижно.
— Она мне совсем не безразлична, чтоб ты знал! Я ведь могла помочь ей тогда, когда она стала нести всю эту чушь о холодных жабах и поганках, а я поступила так же, как и все остальные, я ее отпустила, я ей позволила уйти, она у меня на глазах уходила! После этой гадости, этого фильма, который сегодня покажут всем, я стала иначе относиться к смерти, я теперь чувствую ее, вижу! Ее много здесь много!
Смежив брови.
— Не надо так горячиться. Уж лучше бы ты танцевала, Анджелин, всем было бы лучше. Я думаю, тебе ехать вместе. с нами не следует, уж оставайся со своим Боурисом здесь, в Брюсселе, ему это будет приятно.
Она ринулась к нему и, одною рукой обняв его за шею, стала гладить другою рукой его бороду, волосы, уши.
— Нет, нет, — я в этом каменном мешке и минуты лишней не останусь! И еще — я должна быть рядом с тобой! Ты нужен мне, Кол! Сжалься надо мной, не гони меня!
— Тебе ль понять Успенского, женщина!
— Я пойму все, что надо, я стану такою же, как ты, и все остальное — я буду танцевать!