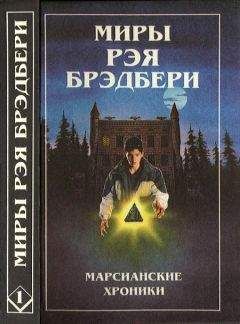Рэй Брэдбери - Миры Рэя Брэдбери. Т. 6. Электрическое тело пою!
— К нам в дом пришел человек с хорошими манерами. Он сказал, что его зовут Диккенс. И, насколько я могу судить, его действительно так зовут. Он полагает, что пишет книгу. Я проходил мимо его двери, заглянул внутрь — он действительно ее пишет. Неужели я стану объяснять ему, что он не должен этого делать? Видно, ему просто необходимо написать эту книгу…
— Повесть о двух городах! — уточнил я.
— Повесть! — Мистер Уйнески вышел из себя. — О двух…
— Пожалуйста, тише, — попросила бабушка.
Человек с длинными волосами, аккуратными усами и бородой уже спустился по лестнице и входил в столовую. Он кивнул, улыбнулся, с сомнением оглядел нас и проговорил:
— Друзья?..
— Мистер Диккенс, — сказал я, отчаянно пытаясь уладить ситуацию, — позвольте познакомить вас с мистером Уйнески, величайшим в мире парикмахером…
Двое мужчин долго разглядывали друг друга.
— Мистер Диккенс, — произнес дедушка, — окажите нам любезность, освятите нашу трапезу молитвой, соответствующей вашему таланту.
— Почту за честь, сэр.
Мы наклонили головы. Все, кроме мистера Уйнески.
Мистер Диккенс спокойно посмотрел на него. Мистер Уйнески пробормотал что-то и уставился в пол.
И тогда мистер Диккенс прочитал молитву:
— О Владыка, подавший нам этот щедрый стол! О Владыка, пославший тучный урожай покорным слугам Твоим, собравшимся здесь в любви и смирении! О Владыка, украсивший наш пир яркой редиской и великолепным цыпленком, даровавший нам истинное летнее вино — лимонад, научивший нас простым радостям картофеля, лука и, наконец, как подсказывает мне обоняние, честного хлеба, претворенного в высокородный клубничный торт, великолепно украшенный и любовно утопающий в плодах с Твоих собственных теплых садовых гряд, — за все это и за радость общения за нашим столом мы премного Тебе благодарны. Аминь.
О, что это было за лето!
Никогда не было такого в Гринтауне.
Никогда в жизни я не вставал так рано и с таким удовольствием! Пять минут чтобы проснуться, а через минуту я уже в Париже… в шесть утра — лодка через Ла-Манш из Кале, Уайтклифф, небо в тучах чаек, Дувр, а к полудню — почтовая карета и Лондонский мост! Завтрак с мистером Диккенсом под деревьями, и Пес норовит лизнуть прохладным языком наши разгоряченные щеки, а потом — снова в Париж, в четыре — короткое возвращение к чаю, и опять…
— Орудие к бою, Пип!
— Есть, сэр!
— Окружить Бастилию!
— Есть, сэр!
И вновь палили ружья, толпа неслась сломя голову, и в самой гуще был я, секретарь мистера Ч. Диккенса, Гринтаун, Иллинойс. Я смотрел во все глаза и держал ушки на макушке, потому что в один прекрасный день мечтал тоже стать писателем — и по мере сил старался расцветить повествование.
— Мадам Дефарж — она сидит и вяжет, я вижу, как мелькают спицы у нее в руках…
Я поднимал голову и видел бабушку, вязавшую у окна.
— Сидни Картон, какой он? Знающий, тонко чувствующий и способный на Поступок…
Под окном по газону проходил дедушка с косилкой.
За холмами ухали орудийные залпы — летняя гроза крушила облачные бастионы…
Мистер Уйнески…
Почему-то я забыл про него, изменил таинственному шесту парикмахерской, который возникал ниоткуда и, закручиваясь, уходил в никуда, не вспоминал сказочные волосы, сами по себе росшие на белом кафельном полу…
Мистеру Уйнески оставалось каждый вечер возвращаться домой и обнаруживать за столом все того же писателя с волосами, давно требующими стрижки, все еще благодарного Господу и за то, и за это, и еще вот за это, — а сам мистер Уйнески благодарности вовсе не испытывал. Потому что за столом сидел я и смотрел на мистера Диккенса так, словно это он был Богом.
Наконец однажды вечером…
— Мы будем благодарить? — спросила бабушка.
— Мистер Уйнески еще бродит по саду, — сказал дедушка.
— Бродит? — Я выглянул в окно. Дедушка передвинул кресло, чтобы видеть меня.
— Так говорится — бродит. Я видел, как он пнул розовый куст, растоптал папоротник у крыльца, хотел было стукнуть яблоню, но раздумал; Господь сотворил ее слишком твердой. Тогда он просто попрыгал на одуванчиках. О, вот и он — Моисей, пересекший Черное море желчи.
Дверь хлопнула. Мистер Уйнески стоял во главе стола.
— Сегодня я буду благодарить! — Он сверкнул глазами в сторону мистера Диккенса.
— Почему бы и нет, — миролюбиво отозвалась бабушка. — Да. Пожалуйста.
Мистер Уйнески крепко зажмурился и начал свою молитву-проклятие:
— О Господь, который избавил меня от прекрасного июня и гораздо менее прекрасного июля, помоги мне как-нибудь выбраться и из августа.
О Господь, избавь меня от толп и бесчинств на улицах Парижа и Лондона, которые днем и ночью сотрясают стены моей комнаты, а главные виновники этих бесчинств — мальчишка-лунатик, человек, присвоивший чужое имя, и облезлый Пес, готовый подлаивать всякому сброду.
Дай мне силы противостоять радостным воплям про Обманщика, Вора, Дурака и Графомана, которые уже стоят у меня в горле.
Помоги мне не помчаться к начальнику полиции и не орать по дороге, что скорее всего человек, который делит с нами нашу скромную трапезу, на самом деле зовется Рыжим Джо Пайком из Уилксборо и разыскивается за подлог или Быком Хаммером из Хорнбилля, и полиция очень желает посчитаться с ним за преднамеренное оскорбление и мелкое воровство в Оклахоме.
Господи, избавь невинных мира сего от жестокой хватки проходимцев, способных обмануть их доверие.
И еще, Господи, помоги мне выговорить — тихо, и со всем почтением к присутствующей здесь даме, — что если пресловутый Чарльз Диккенс завтра же дневным поездом не уберется в свое Разбитое Корыто, к Черту-на-Кулички или еще куда-нибудь подальше, то я, как Далила, безжалостно обстригу этого барана.
Господи, не милости к своим намерениям прошу я у Тебя, а простой справедливости. Не потакай злодеям!
Все, кто согласен со мной, скажите «Аминь».
Он сел и как ни в чем не бывало принялся за картошку.
Молчание висело над столом, мы сидели как замороженные. А потом мистер Диккенс с закрытыми глазами простонал:
— О-о-о!
Это был плач, надрывный крик, и в нем звучало отчаяние, долгое и бездонное, как далекий гудок поезда в тот день, когда незнакомец прибыл в Гринтаун.
— Мистер Диккенс, — позвал я.
Нет, слишком поздно. Он уже поднялся на ноги, согнутый, ослепший от горя, и, хватаясь за мебель, придерживаясь за стену, выбирается в коридор и бредет вверх по лестнице.
— О-о-о! — долгий крик человека, сорвавшегося с утеса в Вечность.