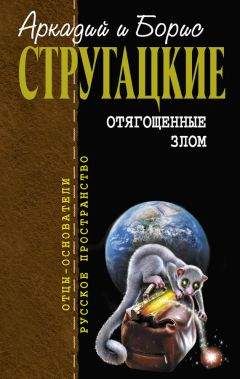Аркадий и Борис Стругацкие - Отягощенные злом, или Сорок лет спустя
Пневмопочта работает. Я просмотрел газеты. Признаюсь, с отвращением. Всё-таки настолько всеобщего взрыва озлобления и неприязни я не ожидал. В рамках держалась только «Ташлинская правда». Все же прочие наши газеты шипели и плевались, как ошпаренные коты.
Деятельность, несовместимая с высоким званием народного педагога… Проповедь ложных утверждений, противоречащих самым высоким идеалам социализма… Ядовитая проповедь провозглашения (проповедь провозглашения!) мира между трудом и тунеядством… Претензии на роль некоего гуру, проповедующего новую религию, проповедь взглядов, идейно разоружающих строителей коммунизма… Приговоры: запретить преподавательскую деятельность; выгнать на пенсию; в двадцать четыре часа выдворить из города – через посредство административной высылки в установленном порядке…
Более всего неистовствуют, конечно, наши обожаемые хрипуны. Но совсем ненамного отстают от них господа наробразовцы, молодёжные вожди, заместители деканов и вообще кадровики всех мастей. Несколько рабочих с «тридцатки», пара мастеров-наставников с крупнопанельного, и даже трое каких-то неедяк, видимо, насмерть перепуганных размахом происходящего. И уж совсем ни к селу ни к городу – военный комендант.
Что характерно: Ревекка не выступила. Милиция промолчала. Горсовет практически промолчал. Такое впечатление, что весь этот рык и рёв – действительно глас народа. Видимо, Г.А. своей статьёй попал в самое больное место, я даже не понимаю, в какое именно. О Флоре – почти ни слова. Такое впечатление, что про неё забыли совсем. Мне даже в голову пришло, что Г.А., может быть, нарочно выступил со своей статьёй, чтобы перевести огонь на себя. Чтобы они оставили в покое Флору и разрядились на него.
В нескольких газетах встретились мне какие-то непонятные намёки. Можем ли мы доверять подготовку будущих педагогов человеку, который оказался столь беспомощным в своих собственных, личных делах? Не следует ли предположить, что трогательная забота о тунеядствующей Флоре вызвана соображениями, совершенно личными, весьма далёкими от философии, социологии, педагогики? И снова: не следует ли Г.А.Носову разобраться сперва с собственными, частными делами, а потом уже заниматься общественными?
Я показал эти места Мишелю. Он странно взглянул из меня и спросил: «Ты что – не знаешь, что ли?» Я не знал. «Вырастешь, Ига, узнаешь», – пробурчал Михей, и я вдруг понял, что узнать не хочу. Это какая-то гадость, ну её к чёрту.
Ура! Наконец-то наш Ташлинск попал в центральную прессу. Не могу отказать себе в удовольствии – цитирую дословно из «Известий»:
«Ташлинск, 19 июля. На два месяца раньше срока запущена полностью автоматизированная линия по производству высококачественных брынз на Ташлинском молочном комбинате имени Емельяна Пугачёва…» и так далее.
А мы-то, дураки, тут переживаем!
Имеет место определённая эволюция звуков, раздающихся снаружи. Сначала была просто сумасшедшая какофония. Потом им это надоело (сами, видимо, оглохли), и они принялись развлекаться: громовыми голосами читали избранные выдержки из сегодняшних газет. Тоже надоело. Принялись паясничать: «Внимание, внимание! Через пять минут здание лицея будет взорвано на воздух! Предлагается всем находящимся в здании капитулировать. Выходить без оружия по одному с интервалом в тридцать секунд, держа руки за головой. Первым выходит Носов, лично…» На этом месте диктора окончательно разбирает смех, и окрестности оглашаются громоподобным фырканьем и хрюканьем. Это им тоже надоело, и сейчас они гоняют Джихангира. Несколько сцепок пустились в пляс.
Аскольд наладил мегафон и предложил Г.А. выступить. «Чтобы они не думали, будто мы испугались и прячемся». Г.А. резко ответил: «Нет. Мне всё равно, что они думают. Я не люблю их сейчас. Я не хочу с ними разговаривать».
РУКОПИСЬ «ОЗ» (23–25)
23. Теперь их было у нас уже трое, и у каждого был свой кабинет. В кабинете каждый их них спал, принимал пищу и посетителей, а также писал меморандумы, докладные, наставления, рекомендации, замечания и представления. Кроме того, у каждого был свой столик на кухне.
Кабинет Колпакова был светел, чист и пустоват. Пётр Петрович был аскет. Канцелярский стол с двумя аккуратными пачками брошюр и справочных изданий. Железный ящик-сейф справа от стола. В углу за скромной ширмой – скромная раскладушка, застеленная серым шерстяным одеялом. У изголовья простая тумбочка, а на ней – Библия в издании Московской патриархии. Простой – и даже простейший – стул за столом и два таких же простейших стула у стены напротив стола. Голые стены: ни портретов, ни картин. Скромность и достоинство. Трезвость и целеустремлённость. Умеренность и аккуратность. И чемодан с самым обыкновенным барахлом – под койкой.
Парасюхин псе был апологетом безудержной роскоши. Он спешил жить. Он дорвался. Из моей приёмной Марк Маркович уволок (сам, лично, обливаясь потом, задыхаясь и хрипя, иногда даже попукивая от нечеловеческого напряжения): половину чудовищной невообразимой кровати; два телевизора цветного изображения; два застеклённых шкафа невыясненного назначения; книжную стенку вместе с муляжами книг; толстый рулон весом тонны в полторы (это оказались ковры, я думал, он умрёт под этим рулоном, но он уцелел); картину с Сусанной, старцами и пенисом. Он порывался уволочь кресло для посетителей, но я запретил ему это делать, и тогда он уволок кресло со стальным шипом. Из платяного шкафа были им изъяты и унесены: плащ болонья (испачканный), мужской костюм-тройка (новый, на три размера меньше, чем ему требовалось), мохнатое пальто мужское (одно), мужские сорочки разноразмерные (двенадцать, дюжина), бюстгальтеры женские разноразмерные (семь)… Много чего он уволок, мне в конце концов надоело за ним записывать, и я только следил, чтобы он не упёр что-нибудь из моего рабочего инвентаря.
В результате кабинет Парасюхина блистает роскошью, словно комиссионный магазин. Ковры. Роскошные покрывала. Огромный письменный стол с огромным письменным прибором (представления не имею, откуда прибор), на одной стене – Сусанна в тяжёлой золочёной раме, на другой – портрет святого Адольфа, украшенный дубовыми листьями и чёрной муаровой лентой в знак вечного траура по великому человеку, над роскошной постелью – бессмертное творение кисти великого человека «Дас моторрад унтер дём фенстер ам зоннтаг морген». Кресло с шипом приспособлено для посетителей: на шип положена крышка от унитаза, а поверх крышки – подушка-думка с вышитой надписью «Кто рано встаёт, тому Бог даёт». В дальнем углу – огромное старинное зеркало, местами потемневшее, – перед ним Марк Маркович репетирует свои будущие речи. Пафос и верность. Нордическая лень и неколебимая уверенность. Славянская широта и арийский гемютлихькайт. И запашок, как в борделе.