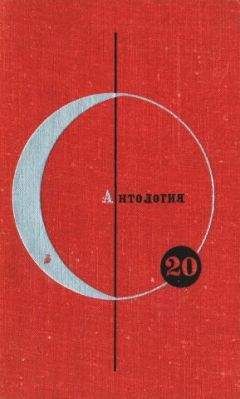Карин Бойе - Каллокаин
Аудитория была уже полна. На возвышении сидел офицер высшего ранга — судья — и два секретаря. Перед ними лежали чистые блокноты. Рядом с судьей я заметил нескольких человек в военно-полицейской форме — видимо, консультантов по вопросам психологии, государственной этики, экономики и другим. На расположенных полукругом скамьях сидели курсанты в рабочих комбинезонах — ученики самого Риссена! Я смутно различал их лица, среди множества одинаковых комбинезонов они казались желтоватыми пятнами. Как вся эта молодежь реагирует на происходящее? Напрягая зрение, я пытался рассмотреть то одного, то другого, но все лица были неподвижны, как маски. Я перестал вглядываться, и они снова потеряли четкие очертания, расплылись в туманные пятна. В этот момент дверь открылась, и ввели Риссена в наручниках.
Войдя в зал, он осмотрелся, но ни на ком не задержал взгляда, даже на мне. Хотя почему, собственно, он должен был особенно интересоваться мной? Откуда ему было знать, что сейчас, в отчаянии безнадежности, я жадно ловлю каждое его движение? На секунду у меня промелькнула надежда: может быть, еще кто-нибудь в зале испытывает те же чувства? Может быть, даже многие?
Риссен уселся на стул, приняв одну из своих обычных нескладных поз, закрыл глаза и улыбнулся. Улыбка была усталая и беспомощная, он ни к кому ее не обращал, он все время сознавал свое полное одиночество и отдавался ему, ища в нем успокоения, как бредущий по ледяной пустыне обессиленный путник отдается сковывающей дремоте, хоть и понимает, что никогда больше не проснется. И по мере действия каллокаина эта беспомощная улыбка все больше и больше преображала его изможденные черты, придавая им выражение покоя и умиротворенности. Я не отводил взгляда от его лица, и думаю, что, если бы даже пришлось ждать несколько часов, я все равно не мог бы оторваться от него. Где были раньше мои глаза, почему я не замечал, какое ни с чем не сравнимое достоинство таится в этом глубоко штатском, смешном на вид человеке! Это достоинство не имело ничего общего с надменной суровостью, которую воспитывала военная служба, оно как раз и состояло в полнейшей непринужденности и абсолютном равнодушии к тому, как он выглядит и какого мнения о нем другие. Когда он открыл глаза и заговорил, я невольно подумал, что точно так же, откинувшись на спинку стула, он мог бы сидеть где угодно. Вот так же, глядя на ослепительно белый потолок, он мог бы говорить без единой капли каллокаина. Он употреблял бы те же самые слова, потому что владевшие им чувства одиночества и пессимизма были сильнее страха и стыда, которые сковывали нас. Я мог бы просто подойти к нему и попросить, чтобы он заговорил, и он бы сделал это так же добровольно, как Линда, просто в подарок. Он рассказал бы обо всем, что я хотел узнать, — об умалишенных и их тайных традициях, о городе в пустыне и о себе самом, о своей тяге к неведомому — она была так сродни тому, что испытывала Линда. Да, он сказал бы все, если бы я, однажды поняв, что какая-то часть моего существа тайно и неодолимо отзывается ему, не выбрал бы путь вражды. Он говорил бы больше, чем сейчас, и, может быть, о гораздо более важных вещах: он и обо мне самом рассказал бы то, что я, наверно, Ни когда уже не сумею раскрыть. Меня мучило не чувство сострадания к нему, осужденному на смерть, а то, что, предав его, я предал самого себя. И я слушал его так же жадно, как прежде слушал Линду, только со все растущим чувством страха.
Я хотел бы больше узнать о нем самом, но его волновали общие проблемы.
— Вот и все, — начал он. — Я здесь, так и должно быть, это ведь был только вопрос времени. Я здесь, чтобы сказать правду. Можете вы слушать правду? Люди не настолько искренни, чтобы выслушивать правду, это очень грустно. А ведь правда могла бы стать тем мостом, что связывает человека с человеком, но только пока она добровольна, пока она дается и принимается как дар. Разве не удивительно, что все на свете, даже правда, теряет свою ценность, как только становится принудительным? Нет, вы, конечно, не замечали этого, потому что тогда вам пришлось бы понять и то, что вы нищие, ограбленные, что у вас отнято все, — а кто же стерпит такое! Кто захочет созерцать собственное убожество добровольно, без принуждения? И не люди к этому принуждают, а пустота и холод — мертвящий холод, полный ненависти. “Общность? — говорите вы. — Сплоченность?” И эти слова вы кричите над разделившей вас пропастью. Неужели не было какого-то момента, одного момента на протяжении всей человеческой истории, когда можно было выбрать другой путь? Перекинуть мост через пропасть? Неужели ни разу нельзя было остановить броневик Насилия и не дать ему двигаться сквозь пустоту? Есть ли путь, ведущий через смерть к обновлению? Придет ли священный миг, который решит нашу судьбу?
Я годами думал о том, скоро ли он наступит. Может быть, когда мы поглотим соседнее государство или оно поглотит нас? Будут ли тогда пути от сердца к сердцу возникать так же легко, как они возникают между городами и районами? Только бы это время скорее пришло. Пусть пришло бы со всеми своими ужасами. Или тогда уже ничто не поможет? Потому что броневик станет таким мощным, что не захочет из божества превращаться в простое орудие. И захочет ли когда-нибудь божество, самое мертвое из всех богов, добровольно отказаться от своей власти? Мне бы хотелось верить, что в человеке таятся зеленые глубины, океан нетронутых созидательных сил, которые могут поглощать остатки мертвечины, могут исцелять и творить… Но я не видел их. Я знаю только, что из рук больных родителей и больных учителей выходят еще более хилые дети, и в конце концов болезнь становится нормой, а здоровы; — уродством. Одинокие производят на свет еще более одиноких, запуганные — еще более напуганных… Как же может хоть один здоровый росток пробиться сквозь броня)? Несчастные, которых мы назвали сумасшедшими, тешились своими обрядами. Они, по крайней мере, чувствовали, что им чего-то не хватает. Пока они сознавали, что делают, им было к чему стремиться. Но, по существу, это все равно, потому что их путь никуда не ведет. Да разве вообще существует путь, который куда-то ведет? Если бы я вдруг очутился на станции подземки, целиком заполненной людьми, или где-то на большом празднике, с микрофоном в руках, кто услышал бы мои призывы? Ничтожная часть жителей Империи, да и те не обратили бы на них внимания. Кто я? Жалкий одиночка. У меня отняли жизнь… И все же именно в эту минуту я ощущаю, что живу. Я знаю, это каллокаин порождает неразумные надежды, это от него все кажется таким простым и ясным. Но я живу — хотя у меня все отняли, — и именно сейчас я сознаю, что мой путь куда-то и едет. Я видел, как силы смерти распространялись по свету все шире и шире, словно круги на воде, но ведь должны же существовать и силы жизни, хоть мне и не удалось их увидеть! Да, да, я понимаю, я говорю так, потому что на меня действует каллокаин, но разве это не может быть правдой?