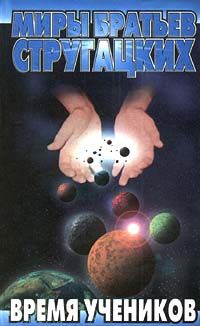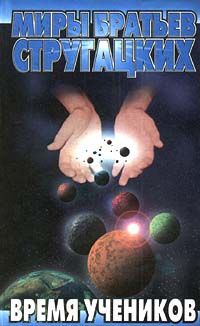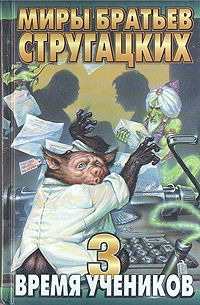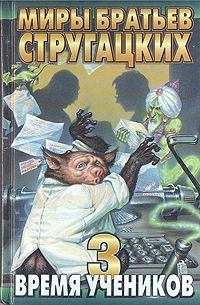Яцек Дукай - Лёд
…Понимаешь теперь, почему шаманы бьют в бубны? Почему они все время бьют, бьют, колотят в те свои бубны?
…Да, Саша, все мы — волны на поверхности океана, орнамент инея на стекле. Существует ли кто-то, или ему только кажется, что существует… Во Льду он является неуничтожимым, вечно существующим — как число, математическое утверждение или силлогизм. Но живет ли число? Меняется ли оно всякую секунду? А всякая жизнь это: изменение, отрицание самой себя из предыдущего мгновения, то есть — Ложь. Поверь мне: человек на Дорогах Мамонтов не живет. К жизни возвращается лишь потом. Он складывается в кучу, словно разбитое стекло. — Я отрыгнул. — И, наверняка, обломки при этом перемешиваются.
— Так ты тоже перемешался?
Сашу это ужасно рассмешило. Он долгое время подсмеивался; потом это проходило, но всякий раз, когда глядел на меня сверху, попадал в состояние хихикающего веселья.
Я хлопнул в ладони.
— Ну все, все уже.
Саша взял себя в руки.
— Есть гораздо более простое объяснение, — сказал он, впадая в серьезный тон, надевая на лицо неприступную мину господина биолога, — и оно таково, что вместо правды ты помнишь свои бредни, родившиеся по причине гипотермии, голода, отчаяния. Обмороженные люди, вытянутые из льда после длительного времени, оттянутые от порога ледяной смерти — рассказывают различные мистические истории. Ведь там, на иркутской улице — на самом деле люта ты ведь не коснулся; наверняка бы умер. А то, что помнишь всяческие чудеса… Подобных сообщений я читал много. И вовсе даже не от мартыновцев; гораздо более ранних. К тому же ты сам рассказывал, что тунгусы во время путешествия травили вас своими сонными дымами. Выходит — как ты это сам говоришь? — именно такое прошлое для тебя замерзло.
Я крутанул над окном рукой с папиросой; дым свернулся красивым серпантином.
— Я только спал.
Мы молчали. Паутинки бабьего лета легких, ненадежных взглядов висели над нами в вечернем свете. Откормленный в залитом кратере гнус уже поднялся в эту пору, безумствуя в поисках теплого пропитания. Саша энергично отгонял его; я ежесекундно давил насекомых на коже. Человек привыкает к запаху собственной крови, к этим прогнившим духам жизни.
— Да! Ты же совершенно не говорил, как там у тебя. Ты же, вроде, должен был возвратиться в Томск?
— Ой, после отделения Шульца-Зимнего все это оборвалось. Томск и Томский Университет были в руках царя, граница проходила по линии Оби. А тут еще профессор Юркат встал на сторону графа… После побега доктора Теслы Шульц закрыл нас на два месяца в Ящике.
— Из-за того, что вы, вроде, помогали Поченгло?
— Ну, в тюрьму он нас не бросил. Закрыл нас в комнатах восточного крыла. А может даже и не он, а тот его комиссар по срочным поручениям, как там его…
— Урьяш. Но в Обсерватории вы ведь были под арестом, не так ли?
— Тут дело пошло так. — Саша повернулся в мою сторону, склонился к нижней части помещения. — Как только ты сбежал из-под следствия, князь Блуцкий из Иркутска уехал. Мы слышали, будто бы он собирает царские войска в Александровске. Шли, якобы, какие-то секретные переговоры через Победоносцева: князь, граф, Император, Сибирхожето. В тьвете под Обсерваторией была даже какая-то перестрелка, казаки генерал-губернатора нас защитили, а шла на нас тогда целая армия бродяг. Все ужасно перепугались. И тут однажды ночью появляется господин Поченгло, переодетый исправником, с губернаторским пропуском в руках, и говорит, что у графа на столе лежит готовый приказ об изгнании доктора Теслы. Только, понимаешь, о таком изгнании, чтобы потом никто и никогда его уже не нашел.
— Ясно, это было только вопросом времени. Сибирхожето наверняка поставило условием: никакой Оттепели или даже шантажа Оттепелью.
— Князь Блуцкий должен был с казаками атаковать Иркутск; господин Поченгло говорил, что именно после Теслы каждый день по городу шли слухи о скором штурме. И вдруг все повернулось на сто восемьдесят градусов: Никола сбежал, а Победоносцев выступил в открытом союзе с графом в плане отделения; они подписали гарантии экстерриториальности Транссиба, холодопромышленники направили мирную петицию к Его Сиятельству с десятимиллионной контрибуцией, а князь Блуцкий отступил к Оби. — Саша замахал руками, прогоняя мошку; правда, это мог быть и его жест полной дезориентации. — Ты хоть что-нибудь из всего этого понимаешь?
— История, дорогуша, История. Если бы Лед все еще держался, я бы рассчитал тебе то и другое — но сейчас, после Оттепели, ежечасно рождается семь версий для каждого факта, ни одна из них правдивая, ни одна из них ложная.
— Это кто там?
— Ммм?
Повернувшись в оконной раме, Саша указывал папиросой на западную стену. В строгой оправе от сертификата на разрешение добычи, выставленного Горным Управлением уже не существующей акционерной компании, я повесил там черно-белый автопортрет панны Елены.
— Ну да, ты ведь ее не знал.
— A-а, сердечная боль!
Но и тут никакой стыд меня не коснулся.
— Да. — Я сбил пепел на зимназо. — Плохо замороженное воспоминание. — Закрыв лицо ладонью, я глянул на картинку через дыру отсутствующего пальца. — Хотя бы даже ради одного этого стоило бы побороться за Лед.
— Ради чего?
— Ради той логической уверенности чувств. Это было перед глазами с самого начала, ведь это одна из основ Математики Характера, быть может, даже самая главная.
Саша пошлепал к стенке, длинной своей тенью вытирая ящики и предметы мебели; там прижал нос к картинке, что-то замычал с папиросой во рту.
— Что?
— Так это рисунок, сделанный из воображения? — Павлич провел ногтем по переломам картона.
— Почему?
— Такая живая девушка не существует, n'est се pas[414]?
Я же, тем временем, вытянулся на шезлонге, чтобы подремать.
— Какая разница, Саша, и так у нас Оттепель… Взять нас двоих — вот подумай… Ведь мы же друг друга хорошо и не знаем, так… Ведь, пока с человеком вообще встретишься… Подо Льдом… Друг, враг, любовь, ненависть — еще перед тем, как подобную особу увидел, до того, как она начала существовать для твоих чувств… Уже Правда! Так какая разница…? Все это математика…
И я заснул.
Официальная учредительная встреча Товарищества Промысла Истории Герославский, Поченгло и Фишенштайн состоялась через шесть дней, ровно в полдень, на солнечном зеркале крыши Кривой Башни.
Пан Порфирий вознес первый тост — не в качестве мажоритарного пайщика (это я был мажоритарным акционером), но в качестве Премьер-Министра Соединенных Штатов Сибири. Для этой оказии он встал на обе ноги, левой рукой опираясь на трость. Он говорил о светлом будущем СШС, о могуществе, следующем из исключительных природных богатств Сибири, о праве народов Сибири пользоваться данными им Богом преимуществами, в любом виде и в каждой сфере. На дворе двадцатый век, говорил он, Великобритания и Германия черпают свои силы не из эксплуатации крестьянина, но из труда собственных предпринимателей, из богатства своих национальных концернов. И вот Премьер-Министр дает пример и творит основы для экономики Сибирских Штатов, учреждая Товарищество Промысла Истории ГПФ!