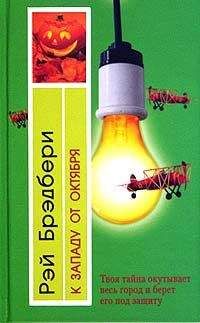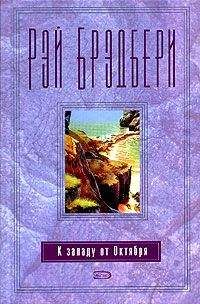Рэй Брэдбери - Сборник 9 КОНВЕКТОР ТОЙНБИ
Ночной город его заворожил, и он почувствовал себя всемогущим волшебником, который управляет судьбами, как марионетками, дергая за паутинки ниток. С самого верха башни он за пять миль угадывал малейший трепет листвы в лунном свете, чуял угасание последнего огонька, словно мерцающего сквозь прорези в оранжевой тыкве, заготовленной на Хеллоуин. Тогда город не мог укрыться от его взгляда, не мог пошевелиться и даже вздрогнуть без его ведома.
Точь-в-точь, как сейчас. Он сам превратился в башню с часами, которые размеренно бухали и возвещали время могучим бронзовым боем, не спуская глаз с города, где молодая женщина, подгоняемая порывами ветра, страха и самоуверенности, возвращалась домой в меловом лунном свете – вброд через каменно-асфальтовые русла улиц, мимо свежеподстриженных лужаек, дальше бегом, ниже, ниже в овраг по деревянным ступенькам, а потом вверх, вверх по склону, по склону!
Он услышал ее шаги задолго до того, как они застучали рядом. Услышал ее прерывистое дыхание еще до того, как оно приблизилось. Его взгляд опять выхватил оставленный на перилах стакан. А затем послышались всамделишые звуки – настоящий бег и шумные вздохи, неотвязным эхом отдающиеся в ночи. Он выпрямился. Шаги в панике простучали по мостовой, по тротуару.
Снаружи раздалось бормотание, на ступенях крыльца произошла неловкая заминка, в замочной скважине повернулся ключ, и громкий шепот стал молить: «О Господи! О Господи, помоги!». Шепот! Шепот! Женщина ворвалась в дом, хлопнула дверью и, не умолкая, бросилась в сторону темной комнаты.
Он скорее почувствовал, нежели увидел, как ее рука тянется к выключателю.
И кашлянул.
В темноте она прижалась спиной к дверям. Пролейся на нее лунный свет, по нему бы побежала рябь, как по озерцу в ветреную ночь. У нее на лице – он это явственно ощутил – вспыхнули чистой воды сапфиры, а кожа заблестела от соленых капель.
– Лавиния, – позвал он шепотом.
Ее раскинутые руки замерли, будто на распятии. Он услышал, как приоткрылись ее губы, чтобы выдохнуть тепло. Она была хрупким, смутно-белым мотыльком; он приколол ее к створкам двери острой иглой ужаса. Вокруг этого экземпляра можно было ходить, сколько вздумается, и разглядывать, разглядывать.
– Лавиния, – прошептал он.
От него не укрылось, как зашлось ее сердце. Но она не шелохнулась.
– Это я, – продолжил он.
– Кто? – спросила она совсем тихо, а может, это у нее на шее забилась тонкая жилка.
– Не скажу, – шептал он.
Вытянувшись, он стоял посреди комнаты. До чего же приятно ощущение своей высоты! Хорошо, когда чувствуешь себя рослым, видным, темноволосым, когда пальцы изящны, как у пианиста, – того и гляди забегают по клавишам, извлекут из них сладостную мелодию, ритмы вальса. Ладони были влажными, словно их опустили в чашу с мятой и холодящим ментолом.
– Если сказать, кто я такой, ты, чего доброго, перестанешь бояться. А я хочу, чтобы ты боялась. Тебе страшно?
В ответ не раздалось ни слова. Она сделала выдох и вдох, выдох и вдох, точно раздувала маленькие мехи, которые поддерживали огонек ее страха, не давая ему угаснуть.
– Зачем ты ходила на последний сеанс? – спросил он шепотом. – Зачем ты ходила на последний сеанс?
Ответа не было.
Шагнув вперед, он услышал ее судорожный вдох, будто из ножен вытащили меч.
– Почему ты одна пошла через овраг? – допытывался он. – Ты ведь возвращалась одна, верно? Боялась столкнуться со мной на мосту? Зачем ты ходила на последний сеанс? Почему одна пошла через овраг?
– Я… – выдохнула она.
– Ты, ты, – подтвердил он.
– Не надо… – Ее шепот был истошнее крика.
– Лавиния. – Он приблизился еще на шаг.
– Умоляю, – произнесла она.
– Отвори дверь. Выйди. И беги, – прошептал он.
Она не двинулась с места.
– Открывай дверь, Лавиния.
Ее душили рыдания.
– Беги, – приказал он.
Следующий шаг – и он почувствовал какое-то прикосновение к своему колену. Он отмахнулся, в темноте что-то накренилось и перевернулось – не то столик для рукоделия, не то корзина, из которой выкатилось полдюжины невидимых клубков, по-кошачьи метнувшихся врассыпную. В единственном освещенном луной месте, на полу под окном, блеснули металлической стрелкой портновские ножницы. На ощупь они были холодны, точно зимний лед. Неожиданно он протянул их ей сквозь застывший воздух.
– Бери, – прошептал он.
И коснулся ими ее запястья. Она отдернула руку.
– Держи, – настаивал он.
– Говорю же: возьми, – повторил он, немного выждав.
Разжав ее пальцы, которые уже были сведены холодом и не отзывались на прикосновения, он с силой вложил в них ножницы.
– Вот так, – сказал он.
Он бросил мимолетный взгляд на залитое лунным светом небо, а когда опустил глаза, не сразу нашел ее в темноте.
– Я тебя поджидал, – сказал он. – Впрочем, это не ново. Я и других ждал точно так же. Но все в конце концов разыскивали меня сами. Это не составляет труда. Пятеро милых девушек за последние два года. Я поджидал их – кого в овраге, кого на окраине, кого у озера; ждал, где придется, а они выходили меня искать. На другой день читать газеты – одно удовольствие. И ты сегодня ночью вышла на поиски, в этом нет сомнения, иначе зачем было идти в одиночку через овраг? Ты нагнала на себя страху и пустилась бежать, так ведь? Не иначе, боялась, что я подкарауливаю в самом низу? Посмотреть бы тебе со стороны, как ты мчалась по дорожке к дому! Как возилась с замком! А уж как запиралась изнутри! Видно, решила, будто дома тебе ничто не угрожает, ничто, ничто, ничто не угрожает?
Сжимая ножницы в одеревеневшей руке, она заплакала. Ему были заметны только легкие блики, словно от воды, стекающей по стенке полутемной пещеры. Он услышал всхлип.
– Не надо, – прошептал он. – У тебя же есть ножницы. Слезами ничего не изменишь.
Но она все равно плакала, не в силах пошевелиться. Ее зазнобило. Она начала медленно сползать на пол.
– Успокойся, – шепнул он.
– Меня бесят твои слезы. – Он потерял терпение. – Я этого не выношу.
Он стал тянуть к ней руки, пока одна из них наконец не коснулась ее щеки. Кожа на ощупь была мокрой, а теплое дыхание билось о его ладонь, как летняя бабочка. Тогда он произнес лишь одно слово.
– Лавиния, – вкрадчиво сказал он. – Лавиния.
Как отчетливо помнил он прежние ночи в прежние времена, во времена детства, когда они всей компанией целыми днями играли в прятки – бегали-прятались, бегали-прятались. С наступлением весны, и в теплые летние ночи, и в конце лета, и в те первые пронзительные осенние вечера, когда двери закрывались рано, а на террасах шевелились разве что опавшие листья. Игра в прятки продолжалась до тех пор, пока не закатывалось солнце, пока не всходила снежная краюшка луны. По зеленой лужайке топотали детские ноги, будто с веток беспорядочно сыпались спелые персики вперемежку с дикими яблоками, а водящий, прикрывая руками опущенную голову, нараспев отсчитывал: пять, десять, пятнадцать, двадцать, двадцать пять, тридцать, тридцать пять, сорок, сорок пять, пятьдесят… И вот уже стук яблок уносился вдаль, ребята надежно хоронились кто под сенью кустарника, кто на дереве, кто под ажурным крыльцом, а умные собаки старались не вилять хвостами, чтобы никого не выдать. Тем временем счет подходил к концу: восемьдесят пять, девяносто, девяносто пять, сто!