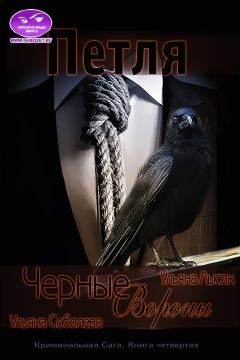Лилия Баимбетова - Планета-мечта
Я остановилась по колено в воде и вцепилась руками в натянутый трос. Я все еще смотрела вверх.
— А ты? — спросила я.
— Сейчас. Что, действительно, боишься?
Что-то страшно знакомое послышалось мне в этом голосе, в интонациях, мягких и ироничных. Мне показалось, я схожу с ума. Он начал говорить со мной более раскованно, и, видно, прорвалось что-то подлинно его; до того он был так скован и так шарахался от нас…. А теперь…. Господи, я сходила с ума от невозможности вспомнить, что это напоминает мне, что его голос, его акцент, его интонации напоминают мне. Не просто акцент, а именно голос — этот голос!
— Я не умею плавать, — повторила я, глядя в его лицо.
Мягкий ироничный голос ответил мне:
— Я тоже, если тебя это успокоит.
Такой знакомый голос.
Я засмеялась в ответ и пошла. Небо был так низко над деревьями, казалось, что они едва-едва не задевают его. Как низко все же небо на равнине. Я цеплялась за трос обеими руками. Белая вода бушевала вокруг моих ног, а камни на дне были такие скользкие. Вода бурлила и закручивалась в водовороты, белая вода, пенная вода.
Я кусала губы. Я боюсь воды, может быть, оттого, что родилась в космосе. Я оторвала взгляд от воды и посмотрела вперед. Берег был всего в пяти-шести метрах от меня, а казалось, что до него больше парсека. Я поскользнулась, с трудом восстановила равновесие, а через шаг поскользнулась снова.
У меня все обмерло внутри. Я так ужасно испугалась. Вода доходила мне до бедер, и течение было такое, что я едва удерживалась на ногах. Я шагнула, и течение снесло мои ноги с камня. Вода захлестнула меня с головой, миг я еще держалась за канат, а потом мои руки разжались. Как ни странно, в этот раз я не испугалась, я успела подумать только, что бог все-таки любит троицу.
Я пришла в себя на берегу. Мне было ужасно холодно. По небу плыли рваные клочья облаков. Ветер налетал порывами. Вразнобой говорили люди, встревоженное лицо Стэнли маячило прямо передо мной. Я оттолкнула чьи-то руки и села.
— Бог любит троицу, — объяснила я. Стэнли и Михаил Александрович встревожено переглянулись, — Я уже тонула два раза, — прибавила я со смешком, — И кто меня вытащил?
— Он, — сказал Стэнли и показал куда-то.
Я оглянулась.
Наш проводник лежал на песке, до кошмара похожий на мертвеца, осталось только руки на груди скрестить. Мокрые волосы откинуты были с лица, почти чистого. Худое это было, смуглое, бледное лицо. Нос с горбинкой, широкий тонкогубый рот. Возле уха я увидела короткий грубый шрам.
Я встала, снова оттолкнув руки Стэнли: помощь мне не нужна, спасибо. Этот лицо, бледное до синевы, этот шрам. Все это дразнило мою память. Казалось, имя вертится у меня на языке, но я не могла поймать его. Зачарованная этим ощущением, я сделала шаг, другой.
Он застонал, перевернулся на живот, выкашливая воду. Посмотрел на меня мельком — и я увидела его глаза. Его глаза. Меж рядов мокрых, слипшихся ресниц была угольная тьма, и тьма эта глянула на меня, и на миг скрылась за ресницами, когда он зажмурился. Ничего странного, такие глаза бывают у животных, просто белков не видно…. Но в этих глазах не видно было ничего, ни зрачка, ни радужки, просто темнота, без единого блеска. И я остановилась, сбилась с шага. Ветер налетел на меня сзади. Стало вдруг пасмурно и холодно. А я смотрела, не в силах сдвинуться с места. Ворон. Ворон. Ах, ты, боже мой! Ворон.
Я дрожала, но понимание все еще не пришло ко мне. Я дрожала и смотрела на него. Он сел и посмотрел на меня — последний ворон на Алатороа.
Люди вокруг шумели и разбирали рюкзаки. Стэнли раздраженно велел мне переодеться, и я ответила, что обойдусь. Ворон поднялся на ноги. На меня он не смотрел, а я не сводила с него глаз. Вот он пригладил волосы — характерным жестом, который так дразнил меня….
Меня словно ударило. В Альвердене, на рыночной площади, кажется, сто лет назад…. Это лицо, похудевшее, бледное, усталое, горделивое. Это профиль — из тех, что чеканят на монетах. Некрасивый, слишком широкий, с тонкими губами рот. Этот шрам. Кажется, сто лет назад я впервые увидела это лицо. Кажется, сто лет назад я впервые…. Господи, господи. Сгорбившись, ворон отошел в сторону. Но теперь я не решалась подойти, заговорить. Теперь — нет. Когда-то — даже странно подумать — мне было легко и весело с ним, когда-то — сто лет назад. И этот жест! Да, я помню, волосы вечно лезли ему в глаза. Это я помню. Это я помню.
Я испытывала непонятное смущение. Обычно мне не свойственно преклонение перед любыми авторитетами, и потом, ведь это был Кэррон. Ведь это Кэррон! — а я не смею подойти к нему. Но я действительно — не смела. Его нынешнее положение, его потери, его прошлое величие — все это удерживало меня. Да, было время, когда мне плевать было на его «величие», да только время то прошло. Мне было уже не пять лет, и я не смела….
Конечно, я прекрасно осознавала, что значит его присутствие здесь в качестве проводника. Что-то он затевал, готовил — исподволь, осторожно. Но разве об этом я думала тогда, разве об этом….
Весь день я была как в тумане. Мы остановились недалеко от реки, разбили лагерь на большой поляне. Я сидела в своей палатке и просто смотрела в одну точку. Стэнли несколько раз приходил и спрашивал, не заболела ли я, пока я раздраженно не попросила оставить меня в покое. Мне казалось, что мне нужно серьезно о чем-то подумать, но, оставаясь одна, я ни о чем не думала, я просто сидела, обхватив колени, и пыталась не плакать.
Сколько дней я здесь? И все это время я думала о нем, горевала о нем, и вот он здесь, совсем рядом — пойди же, поговори с ним! Но я не могла…. Ведь я даже не знаю его! Ну, что значат те несколько дней, которые мы были знакомы. Я ведь совсем не знаю его. И я не знаю, как говорить — с изгнанником.
Я не плакала, но мне было как-то тошно и плохо. А ведь он знает, кто я. Ведь он знает. Понимает, что я могу узнать его — в любой момент. Детские воспоминания, конечно, могут быть весьма туманными, но я могла узнать его и раньше, ведь могла. А Михаил Александрович, который видел его вовсе не так давно? Ведь он не так уж и изменился. Похудел, да, но он и всегда был худым. Господи…. А странно, если бы я могла представить, что, встретив Кэррон, я не посмею подойти к нему….
Три месяца. Три месяца изгнания. Разумом я понимала, что лучше мне пойти к нему, поговорить с ним хоть немного. Но утешать ворона? Утешать Царя-ворона?! Подумать только, а ведь было время, когда это не имело для меня значения. Он был такой — легкий, веселый, он умел так улыбаться. Улыбка совершенно преображала его лицо. Рот у него широкий, и стоило ему улыбнуться — чуть-чуть, как лицо его совершенно менялось, что-то лукавое и довольное появлялось в нем. У него становился такой вид, словно он спрятал что-то от тебя и ждет, когда ты обнаружишь пропажу. Озорной какой-то вид. Господи, как это было давно!