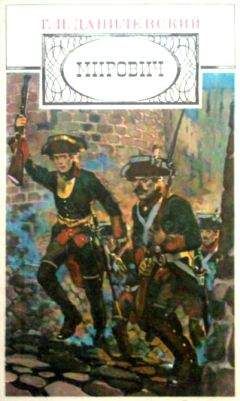Григорий Данилевский - Сожженная Москва
— Как завидел вас, — проговорил дьякон, — ну, думаю, поиск, ихний патруль, опять в их руках, кончено… а тут вы встали да прямо на меня… Душа подчас, как видите, бренна, хоть телом я и Самсон… и за все их злодейства, вот так бы, хоть и слуга алтаря, с ножом пошел бы на них.
Тропинин рассказал о своем плане.
— Не подобает мне клястись, ваше благородие, — произнес дьякон Савва, — сам вижу! только я поклялся… Искал я жену везде в их вертепах, ходил, подавал просьбы их начальству и маршалам, — еще и смеются. Взял я тогда этого препорученного мне сироту, вышел сегодня огородами, думал на Андрониев монастырь, да заблудился, попал сюда. Дай господи, дотянуть до своих, сдать племянника. Попомнят, изверги, Савву.
— Вам, отец дьякон, куда?
— На Коломну.
— И мне туда же, на Рязань; моя семья в Моршанском уезде.
— Не будем же, сударь, терять времени, — сказал дьякон, — коли угодно, вместе двинемся с богом в путь; кажись, рассветает.
Путники миновали поляну и вошли в лес. Долго они пробирались чащей дерев и кустами. Утро их застало у прогалины, на которой стояла пустая лесная сторожка. Они ее обошли и решили отдохнуть у озерка, в гущине леса. У дьякона оказалось несколько сухарей. Они закусили, напились и, остерегаясь встречи с врагами, просидели здесь до заката солнца. Савва рассказал Илье, что он кончил учение в семинарии, был несколько лет певчим в Чудове, женился только весною и в ожидании священнического места пока был поставлен в дьяконы. Его горю при воспоминании о жене не было границ. Он твердил, что, едва сдаст родным племянника, готов взять оружие и идти на врагов; авось примут в ополчение. Вечером путники двинулись снова в дорогу, шли всю ночь и утром следующего дня радостно заслышали собачий лай. Невдали перед ними, за лесом, стал виден поселок. Кто в нем? Свои или чужие? Они вышли на Владимирскую дорогу.
XXX
Стоя на грозном допросе перед маршалом Даву, Перовский наконец разобрал и понял то важное и роковое, что о нем говорил адъютант герцога Оливье.
— Этот господин, — почтительно сказал Оливье, — я отчетливо и хорошо это помню — моложе и ниже ростом того пленного, о котором ваша светлость спрашиваете.
Точно сноп солнечных лучей блеснул в глаза Перовскому; полное ужаса гнетущее бремя скатилось с его груди. Он с усилием перевел дыхание, стараясь не проронить ни слова из того, что далее говорил перед ним его нежданный защитник. Лицо маршала, к удивлению Базиля, также прояснело. В нем явилось нечто менее угрюмое и жесткое.
— Но вы опять мямлите, — сказал адъютанту герцог, будто не желая поддаться осенившему его доброму впечатлению, — у вас вечно, черт возьми, точно недоеденная каша во рту.
— Тот пленный, ваша светлость, — так же почтительно и мягко проговорил Оливье, — был головою выше этого господина… я как теперь его вижу… Он был в морщинах и с родимым пятном на щеке… ходил переваливаясь. И если бы вам, — продолжал дрогнувшим голосом и побледнев Оливье, — не угодно было мне поверить, я готов разделить с этим пленным ожидающую его судьбу.
— Довольно!.. — резко перебил Даву. — В вашем великодушии не нуждаются, а вы, — обратился он к Перовскому, — как видите, спасены по милости этого моего подчиненного… Можете теперь идти к прочим вашим товарищам.
Перовокий неподвижно постоял несколько мгновений, вглядываясь в Даву, который, очевидно, был доволен и своим решением, и растерянностью своего пленного. Не кланяясь и не произнеся ни слова, Базиль обернулся и, пошатываясь, направился к двери. Как его затем провели на крыльцо, указали ему калитку в сад и сдали на руки стражи, оберегавшей жилище пленных, он едва сознавал. Арестанты маршала помещались в недостроенном деревянном флигеле, покрытом черепицей, но бывшем еще без полов и печей. Не доходя до этого здания, Базиль услышал пение и гул голосов тех, кто в нем помещался. Здесь были захваченные на улицах и при выходе из Москвы торговцы, господские слуги, подозреваемые в грабеже и в поджогах чернорабочие, два-три чиновника и несколько военных и духовных лиц. Между последними Перовский разглядел и толстяка, баташовского дворецкого Максима; тот, увидя его, заплакал. Люди из простонародья коротали свои досуги мелкими работами на французов и добыванием для себя харчей, а выпросив у французов водки и подвыпив, — заунывными песнями. Дворянский, духовный и купеческий отдел флигеля был благообразнее и тише. Большинство здесь заключенных сидели молча и мрачно, понурившись или вполголоса беседуя о том, скоро ли конец войны и их плена.
Здесь Базиль узнал, что Наполеон, с целью поднятия раскольников, посетил Преображенский скит, а на днях призывал к себе во дворец продавщицу дамских нарядов с Дмитровки, Обер-Шальме, и что эта «обер-шельма», как ее звали москвичи, толковала с ним об объявлении воли крестьянам. Перовский увидел, что во флигеле, в отведенным ему углу, ему приходилось спать на голой земле. Тут к нему с услугами обратился румяный, рослый и постоянно веселый малый, которого звали Сенька Кудиныч. С рыжеватыми кудрявыми волосами, серыми смеющимися глазами, этот, как узнал Базиль, лакей какой-то графини обитал на половине чернорабочих, где особенно голосисто запевал хоровые песни. Он, добродушно поглядывая на Базиля, без его просьбы наносил ему из сада сухих листьев, нарвал травы и живо из этих припасов устроил ему постель. Скаля белые, точно выточенные из слоновой кости зубы и приговаривая: «Вот так будовар! только шлафрока да туфельков нету; заснете, ваша милость, как на пуховичке!» — он даже подмел вокруг этой постели и посыпал песком. Разговаривая с ним, Базиль узнал, что у Кудиныча была зазноба, горничная его графини, Глаша, и, по его просьбе, написал ей от его имени письмо.
— Но как же ты ей пришлешь письмо? — спросил он его. Сенька ответил:
— Не век тут будем сидеть; улов не улов, а обрыбиться надо! — и спрятал письмо за голенище.
В первые дни своего пребывания в садовом флигеле Перовский, как и прочие пленные, ходил, в сопровождении конвоя, в окрестные огороды и сады на Москве-реке собирать картофель, капусту и другие, тогда еще не расхищенные, овощи. Пленных отпускали также в мясное депо, то есть на бойню, устроенную невдали, в переулке, на Пресне, где они помогали французам в убивании и свежевании приводимых фуражирами великой армии коров, быков и негодных для службы лошадей, причем на долю пленных доставались разные мясные отбросы и требуха. Кудиныч в такие командировки особенно всех потешал своими песнями и шутовскими выходками. Вскоре, однако, эта фуражировка прекратилась. Припасы у французов сильно истощились. Пленных стали кормить только сухарями и крупой. Однажды — это было недели через две после водворения в садовом флигеле милюковской фабрики — Перовский заметил особое оживление и суету у квартиры Даву. Он понял, что у французов готовилось нечто особенное. Из сада было видно, как у дома, занимаемого маршалом, сновали адъютанты, по двору бегали ординарцы и куда-то скакали верховые. «Поход, поход! — радостно говорили друг другу арестованные. — Нас, очевидно, решили разменять и отправят на аванпосты».