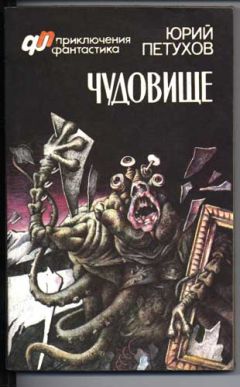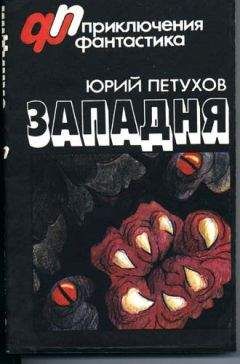Юрий Петухов - ЧУДОВИЩЕ (сборник)
Решение пришло неожиданно. Пропади все пропадом, но он выдержит! Артем подошел к барьеру, лег, свернувшись калачиком. Надо держаться хоть до второго пришествия, а там будь что будет. Даже у безмозглых козявок, когда их берут в руки, хватает ума прикинуться мертвыми — это природа, это самое простое и самое верное.
Пролежал он три дня. Иногда вставал, прохаживался. Когда писк стихал. В это время его не должны были видеть. Но всегда возвращался на то же место, ложился в ту же позу. На четвертый день он догадался вывернуть комбинезон наизнанку и надеть на себя в таком виде. Еды уже не оставалось, но жажды, как ни странно, он не чувствовал. Может, это и было действием той самой «биомассы», которая проскользнула как-то в разговоре «оттуда»? Артем устал гадать. Контакта не получалось, ничего не получалось! Ему становилось все безразлично. Согласиться с таким положением было трудно — и он постоянно подзуживал себя, вызывая злость. Ведь он человек, он не может смиряться, он обязан выбраться!
На двенадцатый день появились первые проблески. "Что-то он переменился, — раздалось сверху, — ты не находишь?" Артем лежал. Ничего тяжелее на свете не было. Неподвижность угнетала, сковывала волю, тело цепенело. Первые дни донимал голод, потом он прошел. Пришли слабость, вялость. Комбинезон стал болтаться на нем словно тряпка. Мысли о Тане не давали покоя. Еще через неделю он расслышал: "Совсем скучный стал, наверное…" Артем с трудом сдержался. Сердце забилось чаще.
Но барьер пропал лишь на следующий день — Артем лежал к нему впритык и потому сразу почувствовал исчезновение стены. Первой мыслью было — бежать! Бежать во все лопатки, пока нет барьера! Но приходилось сдерживать себя, не шевелиться. Он понимал, что не убежит, — ведь по сравнению с ними он просто не умел не то что бегать, даже ползать.
Прошли еще сутки. Тени снова пронеслись над головой, расплылись в призрачной пустоте. Артем почувствовал, как его приподняло, тряхнуло, понесло. Ну, наконец-то! Выбросят, а там… полдела сделано, остается еще полдела, самая трудная половина — разыскать капсулу, ведь без нее о возвращении не может быть и речи.
Но самое страшное пришло на ум последним — он вспомнил, что Таня никогда не выбрасывала засохшие цветы куда попало, они всегда отправлялись в утилизатор. Артем стал потихоньку прощаться с жизнью. Его прошибло холодным потом. Не освобождение он себе нахитрил, а смерть! Тряхнуло еще раз, да так, что он потерял сознание.
Очнулся возле капсулы. Это было невероятно, просто отдавало каким-то бредом. Если бы не вывернутый наизнанку комбинезон, сведенный голодом желудок, высохшие кисти рук, он решил бы, что все было наваждением, кошмарным сном.
Артем медленно, будто боясь подвоха, вошел в капсулу. Надо было стартовать сию же секунду, пока еще чего не случилось, немедленно! Но что-то удерживало. Артем включил запись, около часа вслушивался. Помехи, треск, писк… и всего одна разборчивая фраза: "Не ленись, отнеси его туда, где нашел, — может, ему станет лучше, может, оживет…" Артема чуть не подбросило в кресле. Да, ему лучше! Да, он ожил! Мы еще встретимся, пусть другие, пусть специалисты наши, а не он, но встреча все равно будет! Он нажал стартовую клавишу. Перед тем, как его выбросило в подпространство, успел подумать: "А ведь они лучше, чем я предполагал, они, может быть, лучше, чем мы сами".
Маленькая трагедия
Мы же, ища благ, желаем жить близ людей, исполненных достоинств.
"Махабхарата"Но много нас еще живых, и нам
Причины нет печалиться.
А.С. Пушкин. "Пир во время чумы"В жизни Кондрашева, сорокалетнего инженера из заурядного московского научно-исследовательского института, это был тот самый звездный час, который ждут долго и терпеливо, к которому готовятся так, как ни одна невеста не готовится к предстоящей свадьбе. Оглядываясь назад, за спину, сам Кондрашев не видел почти ничего сколько-нибудь приметного, выделяющегося из обыденной череды долгих дней… И вот он пришел, настал, заветный час. Из-за беспредельной равнины, плоскогорий, завесы туманов и туч показался своей сияющей вершиной желанный, недосягаемый пик. И приблизился точно в сказке, вырос всею громадой, упираясь главою в небеса… Кондрашев стоял у подножия, оставалось лишь вскарабкаться наверх, веревка ему была оттуда сброшена.
Двенадцать лет он корпел дома по вечерам и ночам — чертил, считал, сверял, писал, рвал, зачеркивал, отрекался от написанного и высчитанного, начинал заново. И никогда не терял веры — то, что забрезжило с самого начала, не давало ему ни сна, ни покоя, вело вперед и только вперед. И все по той лишь простой причине, что Кондрашев — и он сам себе отдавал полный отчет в этом — никогда не был прожектером: то, что он нащупал, тянуло если и не на Нобелевскую, так уж на пару Государственных, без всяких сомнений! И не лавров искал Кондрашев, нет, какие там лавры простому инженеру! Он всем своим житейским умом понимал, что коли прицепит телегу к тягачам рангом повыше, так они вытянут, непременно вытянут! А там и самого Кондрашева не забудут, и ему обломится, и он выдернет пускай самое бледненькое, самое невзрачненькое — и все же перышко из хвоста "птицы счастья завтрашнего дня"! Да и как могло быть иначе, ведь врут все, что нет правды на земле! Как это нет, обязательно есть, хоть немного, но есть, на его-то долюшку хватит — ведь многого и не надо, ведь он же сторицей, куда там, тысячерицей вперед все оплатил за эти двенадцать лет! Ведь как работал, ах, как он пахал, как он вкалывал, черт возьми, приближаясь каждой минутой, каждой секундочкой к коротенькой строчке в газетах — "научное открытие"! Ну да, конец — делу венец! Есть правда на земле, должна быть, да и повыше сыщется!
Вот только с открытиями стало сложнее. Если, скажем, прежде какой-нибудь местный архимед, выскочив из своей местной ванны, мог бежать со своей «эврикой» в народ, осчастливливая его немедленно, в тот самый почти что миг открытия, и радостный плебс подхватывал гения на руки и с восторженными криками нес прямиком на пьедестал под лавровым деревом, где тут же плели венки всех размеров, то теперь дела обстояли иначе. Ужасный век, ужасные сердца! Теперь помимо «эврики» надо было предъявить толстенный рулон чертежей, схем, графиков, наглядных таблиц, а также многотомный свод расчетов, обязательно размноженный по числу членов комиссии плюс еще с десяточек, на всякий случай. Да и не то чтобы народ чувствовал себя осчастливленным, вовсе нет, а и сами члены комиссии, мужи ученые, продирались к истине через весь этот ворох документации с трудом, если вообще продирались. Вот в чем закавыка! Нет, другие времена нынче, на руках к пьедесталу не понесут, дай бог пять-шесть специалистов найдется, авось поймут. Вот они-то и застолбят, они-то и помогут, они-то и подхватят, сбросят конец — и тогда в крепкой альпинистской связке, как ледорубом прорубая путь наверх его, кондрашёвским, открытием, они покорят этот сверкающий пик, и лишь небесное сияние будет наравне с ним, лишь парящие в выси горней бессмертные имена окружат их, чтобы принять в свой сонм… Но это все не сразу, это потом. А сейчас первые шажки, необходимейшие, как первые шажки младенца.