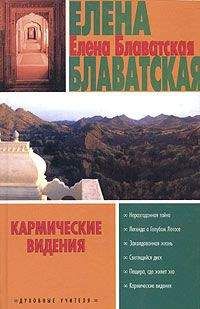Юрий Дружков - Прости меня
Чем удивить их, думал я. Живые цветы? Ха-ха!
...Поселят меня в общей берлоге, в общий барак. И там, в своей мохнатости, не захотят они принять чужака, будут насмешливообходительны, иронически-вежливы на мои потуги примазаться к ним. И я уже представлял себе это вбитое в снег общежитие, пять или шесть моих "сокоечников", и все на одно лицо. Лицо "типичного" полярника.
В Ташкенте я увидел арбуз. Огромный, влажный, прохладный, такой летний со всеми своими косточками, зеленым хвостиком и полосками. И я уже видел, как дрогнули бородатые лица, как хлопнули меня по плечу полярники и сказали снисходительно: "Что ж, ничего, порядок..."
Я с трудом уволок арбуз по трапу самолета. Еще большего труда стоило уговорить пилотов спрятать его в холодильник.
Переворота арбуз не сделал, но ему были рады. Мохнатых и насупленных я не иашел. Были люди, каких я встречал в Москве. Каждый день.
...В бараке мне жить не пришлось. Хотя в поселке в дни прихода "Лены" тесновато, меня поселили в комнатке при каком-то складе аппаратуры. Пятый день я живу в крепком, очень теплом доме, в доме, который никогда не увижу. Дом завален снегом по самую макушку. От моих дверей к другим домикам ведет сложный лабиринт ходов и траншей, откопанных в снегу. На всякий случай в доме есть выходной люк. В сильные заносы придется гулять через потолок. Иногда почти по крышам ходит бульдозер, снимает излишки снега. Снег, оказывается, невероятно тяжелая штука.
Поселок расположен в сравнительно удачном уголке Антарктиды. Летом здесь очень тепло, например минус два градуса. По улицам-лабиринтам снеговая каша хлюпает водой. Вездеходы обдают прохожих зевак талой водичкой, смешанной с гремучими льдинками. Водитель ухмыляется, как московский лихач-таксист. Когда с юга поддувает ветер и льдинки цепенеют в лужах, на весь поселок раздается пронзительный визг снега. Бревенчатые сани-волокуши поют по снегу, орут, визжат, скрипят, как поросята на свиноферме, расположенной за поселком.
Снег, оледеневший, зернистый, сияет на солнце битым стеклом и хрустит и звенит под санями, как стекло. Весь день сани, прицепленные к тягачам, возят ящики с красной полосой на боку, доски, мешки, бочки, фанеру. Их выгружают па берег с "Лены". Там, где она стоит, у ледяного припая, темнеет жутко синяя, как сам, наверное, синий-синий цвет, морская равнина с таким ароматным названием - океан. Правда, называется видимая часть воды морем, но за ней лежит океан, а море никакими берегами не очерчено, поэтому все говорят: океан.
Если смотреть на воду в иллюминатор натопленной каюты, синева кажется горячей по-южному. Солнечный свет ослепителен. По-моему, ярче намного, чем в тропиках или в топ же Индии. Но и солнечный свет, и синева обманчивы. На солнце я загорел и обжег по неопытности губы, а свет был как снег, а синева - как лед.
Мы ходим в оранжевых утепленных комбинезонах, в резиновых, с воздушной прослойкой сапогах, а рот у меня воспален от солнца, говорить больно, и на глазах очки последней пляжной модели.
Доктор наложил на мое лицо марлевую повязку, и я поневоле стал неразговорчивым.
- Привыкайте, - сказал Начальник станции, - вам ехать на полюс холода. Вот где страсти-мордасти. А здесь - акклиматизация, курорт.
Каждый день мы потеем на этой самой акклиматизации: помогаем выгружать ящики на складах или что-нибудь откапываем от зимних завалов: метеостанцию, баню, столовую, радиомачты, арку на въезде в поселок, бензобаки, госпиталь.
Работаем, пока слушаются руки, потому что вечер не наступает, не кончается день, а солнце только ''легка склоняется к лиловым вершинам голых почему-то скал.
И это самое удобное время для работы, когда подмораживает, лед не так сильно плывет, и мы едем на вездеходах к берегу.
Берег - просто ледник, уходящий в море. Лед испитой, бурый, в трещинах, в ямах от воды, необоримый, кажется, никакими силами здешний лед, он искрошен по самой кромке, падает, бухает глыбами в синюю воду, и линия причала, у которого стоит "Лена", меняется прямо на глазах. Берег отступает от "Лены". Вмороженные в лед бревна с хрустом выламывают звонкие до предела швартовые канаты. "Лена" дрожит, подгоняя себя винтом к причалу. Плеск идет по щербатому срезу льда, шелест винтов и моря, шелест ветра в канатах, по крутым высоким бокам "Лены", по хрупающим битым осколкам, плеск и шелест.
Буксуют, плывут на ледяном спуске многотонные тягачи, взрезывая мокрый наст. Ревут моторы, отдаваясь глухим бочоночным звуком в распахнутых трюмах "Лены".
Спешим, пока не раскис лед, пока не ушел берег от якорей, пока не сломалась погода, пока... очень много разных "пока".
Надо себя сдерживать. Иначе опять захлестнет меня дневниковый зуд. Можно писать бесконечно. Ходишь этаким открывателем-путешественником, и все ново, просится на бумагу. Еле сдержал себя, чтобы не описать прибрежные айсберги, свистунов-буревестников на их синих впадинах и коричневые полоски у самой воды, что полоски эти, как мне рассказали, мириады мелкой вмороженной в лед водоросли - диатомеи. А еще зудела рука написать о том, что четыре скалы, пропоровшие кое-где ледник, называются нунатаки.
Мне такое ни к чему. Без меня опишут и описали. Но остерегаться все-таки надо.
Сегодня после ужина в нашей подснежной кают-компании был вечер обмена впечатлениями. Очень хороший, дельный малый, с которым я потопаю в глубь материка, читал нам, прилетевшим на самолете, своп путевые заметки. Он плыл сюда, как и многие, на "Лене".
И вот слышу: "В ноябре мы зашли на остров Святой Елены. Здесь умер в изгнании Наполеон. Его привезли сюда 15 октября 1815 года на английском корабле "Норсхумберленд"..."
Так вот почему я не стал ничего писать о моем перелете. Инстинкт самосохранения!
Был каскад впечатлений. Изумрудно-синий душный Дели, голубая Джакарта, белый, как паруса в океане, Сидней, да еще маленький городок в Новой Зеландии, последний цивилизованный остров на пути сюда, где мы ожидали вылета двое суток, и я лазил в холодильник переворачивать с боку на бок мой арбуз, чтобы не пролежался. Городок стоит на реке Эйвон. И сразу потянуло: так же называется река в Англии, на берегу коей Стратфорд, где родился и умер Шекспир...
Я весь расплескался в полете, глотал видения, краски, слова и звуки, свернул шею, выслепил глаза. Но писать об этом? О Бомбеях, Рангунах, слонах, автомобилях и пальмах.
О чем бы я все-таки написал? О впечатляющей смене зимы и лета, жары и холода, снега и пальм.
О первой остановке в Антарктиде, американской станции Мак-Мердо. Первый лед, первый холод, все первое. Но там почему-то слишком уж много военных. Если у нас говорят: начальник экспедиции, то в Мак-Мердо называют: командование. Правда, кроме военных, там еще немало туристов, богатых туристов.