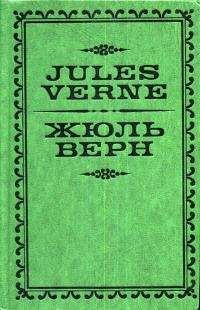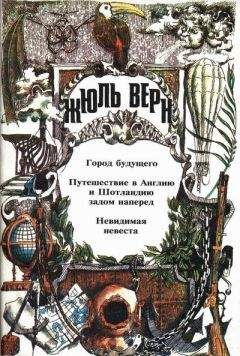Жюль Верн - Париж 100 лет спустя (Париж в XX веке)
Юноша очутился у входа в морг, открытый день и ночь как для мертвых, так и для живых, машинально вошел туда, будто искал дорогие ему существа. Его взгляд остановился на трупах — застывших, зеленоватых, вздувшихся, распростертых на мраморных столах. В углу он заметил электрический аппарат, возрождавший к жизни утопленников, в которых еще хотя бы чуть-чуть теплилась жизнь.
— Опять электричество! — вскричал Мишель.
И бросился бежать.
Собор Парижской Богоматери был на месте. Его витражи сияли, слышались торжественные песнопения. Мишель вошел в древний храм. Вечерняя месса шла к концу. Внутри, после уличной темноты, освещение ослепляло.
Алтарь пылал электрическими огнями, лучи того же происхождения вырывались из дароносицы, которую поднимала рука священника!
— Опять электричество, — восклицал несчастный, — даже здесь!
И он опять бежал. Но не настолько быстро, чтобы не услышать, как заревел орган, приводившийся в действие сжатым воздухом, который поставляла Компания Катакомб.
Мишель терял рассудок, ему казалось, что демон электричества гонится за ним. Юноша пошел Гревской набережной,[79] углубился в лабиринт пустынных улиц, оказался на Королевской площади,[80] откуда статуя Виктора Гюго вытеснила фигуру Людовика XV; перед ним открылся новый бульвар Наполеона IV, простиравшийся до площади, посреди которой Людовик XIV устремляется галопом к Французскому Банку.[81] Обогнув ее, Мишель двинулся улицей Богоматери — Покровительницы Побед.
На фасаде стоявшего на углу Биржевой площади дома он увидел мраморную доску с высеченной золотыми буквами надписью:
Памятник истории. На четвертом этаже сего дома Викторьен Сарду жил с 1859 по 1962 год.Наконец Мишель очутился перед Биржей, кафедральным собором сегодняшнего дня, храмом из храмов; циферблат электрических часов показывал без четверти двенадцать.
— Ночь остановилась, — пробормотал про себя Мишель.
Он поднялся к бульварам. Электрические канделябры испускали ослепительно белый свет, а на ростральных колоннах сверкали прозрачные афиши, по которым бежали огненные буквы электрических рекламных объявлений.
Мишель закрыл глаза. Он смешался с изрядно густой толпой, валившей из дверей театров, добрался до площади Оперы, где его глазам предстала элегантная позолоченная толчея богатеев, бросавших вызов холоду под защитой кашемира и мехов. Он миновал длинную очередь газовых экипажей, а затем скользнул в улицу Лафайет.
Она вытянулась прямой линией в полтора лье длиной.
— Надо бежать от всех этих людей, — сказал себе юноша.
И он бросился вперед, спотыкаясь, падая, снова подымаясь; в нем все наболело, но он ничего не чувствовал, его поддерживала какая-то сторонняя сила.
Чем дальше он уходил, тем больше сгущались вокруг него тишина и запустение. Вдалеке, однако, можно было различить гигантское зарево света. До Мишеля доносился страшный, ни с чем не сравнимый шум.
Вопреки всему юношу продолжало нести вперед, и вскоре его накрыл оглушительный грохот, вырывавшийся из огромного зала, где свободно размещалось десять тысяч человек; на фронтоне Мишель прочел написанные пылающими буквами слова:
Электрический концерт.Да, электрический концерт! А какие инструменты! Двести фортепьяно, соединенных между собой по венгерскому способу с помощью электрического тока, звучали одновременно под рукой одного-единственного артиста! Фортепьяно мощностью в двести фортепьянных сил!
— Бежать, бежать! — воскликнул несчастный, преследуемый неотвязным демоном. — Прочь из Парижа! Вне Парижа я, может быть, найду покой!
Теперь он тащился чуть ли не ползком. Через два часа этой борьбы с собственной слабостью Мишель добрался до водоема Виллетт, но там, думая выйти к порту Обервилье, заблудился и пошел нескончаемой улицей Сен-Мор; еще через час он огибал тюрьму для малолетних преступников, что на углу улицы Рокетт.[82]
Там — зловещее зрелище! — возводили эшафот, готовясь к утренней казни.
Помост быстро вырастал благодаря спорой работе подпевавших себе плотников.
Мишель хотел бежать от этого зрелища, но споткнулся об открытый ящик. Подымаясь, он увидел в нем электрическую батарею.
Сознание вернулось к нему, он понял! Теперь не рубили голов. Убивали электрическим зарядом. Так лучше имитировалось Правосудие Небес.
Мишель испустил отчаянный крик и скрылся в темноте.
На церкви Святой Маргариты часы пробили четыре раза.
Глава XVII
Et in pulverem reverteris
(И ты вновь обратишься в прах)
Что делал бедняга оставшуюся часть этой ужасной ночи? Куда случай направил его шаги? Блуждал ли он, не находя выхода из этого зловещего города, из этого распроклятого Парижа? У нас нет ответа.
Очевидно, он беспрестанно кружил по бесчисленным улочкам, обступавшим кладбище Пер-Лашез; ведь старинный Город мертвых оказался теперь посреди столицы, которая простиралась на восток до фортов Обервилье и Роменвиль.
Как бы то ни было, в час, когда зимнее солнце поднялось над одетым в белое городом, Мишель очутился на кладбище.
Ему больше не хватало сил думать о Люси; мысли замерзали; юноша напоминал привидение, бродящее среди могил, но не чувствовал себя посторонним, он был здесь как дома.
Поднявшись по центральной аллее, он свернул направо во всегда сырые тропинки нижнего кладбища. Нагруженные снегом деревья лили слезы на сверкающие на солнце могилы, и лишь на стоящих вертикально надгробных камнях, где снегу не удержаться, можно было прочитать имена похороненных.
Вскоре Мишель вышел к памятнику Элоизе и Абеляру;[83] он лежал в руинах, только три колонны, служившие опорой полуобрушившемуся архитраву, еще держались прямо, подобно Грекостасису на Римском Форуме.
Взгляд Мишеля словно застыл. Он смотрел, не видя, на имена Керубини, Габенека, Шопена, Массе, Гуно, Рейера[84] — всех постояльцев квартала, отведенного музыке, и от нее, возможно, и погибших, и шел мимо, не задерживаясь.
Он миновал надгробие, в камне которого было высечено одно имя, без дат, без изъявлений сожаления, без украшений — имя, чтимое в веках: Ларошфуко.
Затем юноша очутился в поселении аккуратных, как голландские домики, могил, с отполированными с внешней стороны решетками, со ступеньками, оттертыми пемзой. Туда тянуло, войти.
— И главное, остаться, — подумал Мишель, — упокоиться там навеки.