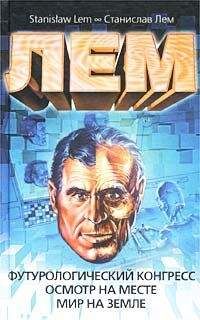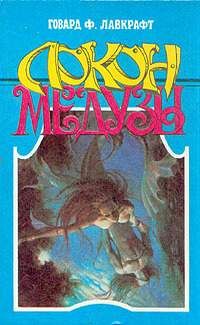Станислав Лем - Осмотр на месте
Свое последнее возрождение Учение о Трех Мирах пережило в Новое время, в эпоху бурного развития гравитационной физики. Ноусхорукс, энцианский Эйнштейн, изложил существо дела просто: чтобы ответить, почему мир таков, каков есть, нужно сперва посмотреть, возможен ли другой мир, способный породить жизнь (иначе в мире не было бы никого, а тем самым проблема снимается). Ответить на поставленный таким образом вопрос нельзя никогда, ведь проект другого мира равнозначен проекту другой физики. Для этого нужно с начала до конца познать физику этого мира, то есть исчерпать ее в формулах абсолютной истины, что невозможно. Именно здесь на сцену возвращается Тайна древних философов, поскольку нам неизвестно, почему мир (а значит, и физику) можно познавать бесконечно. Ни одна теоретическая модель не способна полностью его исчерпать, а это значит, что разум и мир не полностью сводимы один к другому. Предпринимавшиеся впоследствии попытки доказать, что именно так должно быть в любом из возможных миров, потерпели неудачу, и последний вывод, к которому пришла энцианская философия, гласит: нет доказательств ни в пользу устойчивой кривобокости мира и разума, ни в пользу невозможности такой физики, которая отличалась бы от существующей и превосходила ее по части благосклонности к жизни. Многовековая битва за право поставить миру окончательный диагноз закончилась, по мнению одних, ничейным исходом, а по мнению других — поражением.
Тем не менее она в огромной степени определила развитие цивилизации в Люзании и второстепенных государствах к северу от нее, которые находились под люзанским влиянием. Концепция этикосферы как абсолютно надежной опекунши общества, безусловно, восходит к «Трем Мирам» Ксиракса; но эхо его аргументов не менее сильно звучит в диатрибах, похоронивших проект автоэволюционной переделки энциан, который несколько десятков лет будоражил общественное мнение. О том, что на Энции философия не пала так низко, как это было у нас в век науки, свидетельствует роль, которую сыграли философы в этих дискуссиях, и прежде всего в осознании автоэволюционного парадокса (называемого обычно парадоксом Ксиксокта).
Каждый хотел бы, чтобы у него был красивый и умный ребенок. Но никто не желает, чтобы его ребенком была умная и прекрасная цифровая машина, пусть даже она будет во сто раз умнее и здоровее живого ребенка. Между тем программа автоэволюции — это скользкая покатая плоскость без ограничителей, ведущая в пропасть абсурда. Первая стадия этой программы очень скромна — всего лишь устранение генов, снижающих жизнестойкость, служащих причиной увечий, наследственных изъянов и т. д. Но такое усовершенствование не может остановиться на достигнутой точке: даже самые здоровые заболевают, даже самые умные на старости лет впадают в маразм. Ценой, которую придется заплатить за удаление и этих изъянов, будет постепенный отход от природной, сформировавшейся эволюционно схемы устройства организма. Тут-то и возникает парадокс лысого. Выпадение одного волоса еще не приводит к появлению лысины, и нельзя сказать, сколько волос должно для этого выпасть. Замена одного гена другим не превращает ребенка в существо иного вида, но нельзя указать, где, в какой момент возникает новый вид.
Если рассматривать функции организма порознь, усовершенствование каждой из них желательно. Кровь, которая питает ткани лучше, чем натуральная, нервы, не подвергающиеся вырождению, более прочные кости, глаза, которым не угрожает слепота, зубы, которые не выпадают, уши, которые не глохнут, и тысяча иных составных частей телесного совершенства, бесспорно, пригодились бы нам. Но одно усовершенствование неминуемо влечет за собой другое. Более сильные мышцы требуют более прочных костей, а быстрее соображающий мозг — более обширной памяти; вполне возможно, что на следующей стадии увеличится объем черепа и изменится его форма и, наконец, белковый материал придется заменить более универсальным. Небелковый организм не боится высоких температур, радиоактивного излучения, космических перегрузок; бескровный организм, в котором снабжение кислородом совершается просто путем обмена электронов, без примитивного посредничества кровообращения, несравненно менее хрупок и смертен; и вот, начав однажды переделывать себя, разумная раса преодолеет ограничения, которые на нее наложила ее планетная колыбель. Дальнейшие шаги ведут к появлению существа, устроенного, быть может, куда гармоничнее, гораздо лучше переносящего удары и беды, чем человек или энцианин, гораздо более всестороннего, разумного, ловкого, долговечного, а в пределе — даже бессмертного благодаря периодической замене отработавших органов, включая органы восприятия; существа, которому нипочем любая среда, любые убийственные для нас условия, которое не боится ни рака, ни голода, ни увечья, ни старческого увядания, потому что совсем не стареет; словом, это будет существо, усовершенствованное до предела благодаря перестройке всего материала наследственности и всего организма, — с одной-единственной оговоркой: на человека оно будет похоже не больше, чем цифровая машина или трактор. Парадокс заключается в том, что нельзя указать, какой именно шаг на этом пути будет ошибкой, ведь каждый из них приближает нас к идеалу эффективности, хотя идеалом этим оказывается существо уже совершенно нечеловеческое.
Коль скоро такого момента, такой последней границы нет, к чему, собственно, этот сизифов труд, растянувшийся на многие поколения? Если уж мы переделываем не самих себя, а потомство, не проще ли и не лучше ли сразу усыновить цифровую машину, а то и целый вычислительный центр? Ведь раскладка процесса оптимизации на целый ряд поколений — обыкновеннейший камуфляж, программа видового самоубийства в рассрочку; так чем же рассроченная самоликвидация лучше немедленной? Лишь тот, кто согласен усыновить вычислительный центр на ногах (или на воздушной подушке), может без опасений и оговорок приступить к переделке собственного потомства ради создания совершенных правнуков. То, что кажется нам полным абсурдом, — усыновление какого-нибудь бронированно-кристаллического организма, с которым можно толковать о материях земных и небесных, — выглядит уже не столь абсурдно, если переход от естественного состояния к оптимизированному будет длинной серией небольших изменений, растянувшейся на многие поколения; но абсурд становится очевидным, если подвести конечный итог. Разве автоэволюция — это курс излечения от вредной привычки к своему человеческому естеству? Не все ли равно, какая цифровая машина окажется нашим потомством — построенная с начала до конца инженерами или пропущенная сперва через живую матку, а потом через какие-нибудь утераторы[34]? Давая согласие на автоэволюцию, мы соглашаемся упразднить собственный вид и передать наследие цивилизации существам во всех отношениях нам чуждым, ибо мы несовершенны, смертны, ограничены в мышлении и во времени; так пусть же сторонники совершенства избавят себя от лишних хлопот, одним махом усыновив всю мыслящую технологию планеты. Почему, спрашивается, нас должны заменить отдельные системные единицы, ведь еще эффективнее был бы всепланетный кристаллический мозг, наш потомок, наследник и продолжатель!