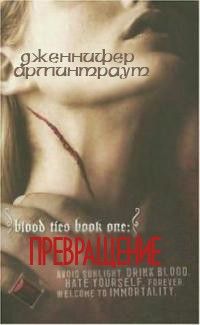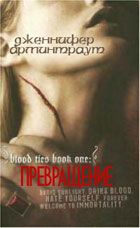Дмитрий Володихин - Тихая тень
Самое главное: весь мир должен оставить меня в покое.
Года четыре назад я принес сюда старенький и дешевенький компьютер – подарок родителей. Две-три игрушки и текстовый редактор. Интернет по понятным причинам отпадает, да и опасаюсь я его на уровне каких-то атавистических инстинктов: сначала я привыкну ходить по нему, потом он привыкнет ходить по мне.
Затем здесь поселился еще более старенький и дешевенький принтер – подарок Бориса Гамова, не к ночи будь помянут. У меня сложные отношения с этими двумя вещами. С одном стороны обе – символ труда, а не праздности, а потому неприятны. С другой стороны, две нелепые груды железа, проводов и пластика источают эманации независимости, самостоятельности, а значит и безопасности. Так что есть в них нечто извращенно-притягательное.
Изначально в убежище были очень грязные полы и стены. Не поверите, но я хорошенько поползал тут с мыльной тряпкой и целым набором жестким щеток. Поначалу у меня было ощущения изрядного неудобства. Потом я осознал: никто за мной не наблюдает. И успокоился. Конечно, тупое мышечное усилие само по себе неприятно. Но некому хотя бы знакомиться с запахами, звуками и сыростью, наросшими на очистительных процессах. Как видите, мне иногда не чуждо смирение.
Убежище сохраняет две архаических легендарии (в мотивах черного средневековья, привидений, цепей и спящего триллера). Во-первых, из комнаты, где стоит моя кровать, наверх ведет какой-то люк. Я купил висячий замок и отрезал от себя простирающееся кверху пространство. Благо, замочные ушки – с моей стороны. Я не желаю расширять мою вселенную. Кроме того, всегда существует опасность проникновения оттуда каких-нибудь опасных чужаков. Во-вторых, от прежних трудовых эпох здесь сохранились два табурета и старый административный стол. В одном из ящиков стола – какие-то журналы дежурств, записи проверяющих, графы с цифрами, отчеты, наблюдения… Настоящая кабалистика для гуманитария! Я не прикасаюсь к текстам из ящика. Они – знак мира, который существует, способен ворваться и нанести мне любой мыслимый и немыслимый ущерб. Я не исключаю того, что врата вторжения откроются прямо на страницах, среди обыденных букв. Скажем, их попросту придут забрать старые хозяева… не думать. Поэтому… пускай лежат обездвиженными и нераскрытыми. Не буди лихо, пока тихо.
…Я сажусь за компьютер. Завтра придет мой дьявол-хранитель Борис Гамов. Ему обещан текст, я сделаю для него текст. Это будет хороший текст. Именно Гамов соблазнил меня регулярно работать за деньги и ради комфортного чувства: публикуют, публикуют, ух ты! Несколько лет назад я занимался планомерным отсеканием контактов с внешним миром. Гамов – беспокойный и брутальный контакт. Очень неудобный, громкий, уверенный и несмирный. Но я пишу. Надо же чем-нибудь заниматься, я и пишу. Я пишу очень давно. Фактически, сколько себя помню. То, что я писал всегда, и пишу сейчас только для себя, невнятно и хаотично. У меня в изголовье стоит большая пушистая игрушка – полосатый глазастый кот с изумительным хвостом. Я люблю кота больше Лиды, больше родителей, даже больше себя самого. Бывает, я обнимаю его и плачу. Кот напоминает об одном древнем слое моей биографии, сладчайшем и непоправимо утраченном. В позапрошлом году я написал роман «Мяу». В нем с какой-то неприятной отчетливостью, даже с какой-то подозрительной близостью к тривиальной традиции показано, насколько игрушечный кот лучше обеспечивает состояние внутреннего комфорта, чем настоящий. Рукопись читал Гамов, те, кому он ее показал, Лида и один пустотник. Двое последних, кажется, кое-что поняли и даже манифестивровали сердечную склонность к тексту. У обоих теперь есть копии рукописи. Этого признания для меня достаточно. Даже избыточно (хватило бы и одного человека). Полагаю, больше никому роман не нужен; признаться, я и не рассчитывал, что этот текст кто-нибудь поймет.
Я был в полной уверенности, что никто и никогда меня не напечатает. Это меня вполне удовлетворяло. Тихо графоманствую в свое удовольствие, мирно дилентантствую. Не кормиться же этим! От Гамова я тогда активно избавлялся и почти избавился. Но у меня осталась книга некоего Б.Дикштейна «Портреты русских монстров постмодерна», каковую книгу Гамов дал мне почитать. Затем у нас произошел контакт, спланированный мною как последний. Почти покинув убежище, этот суетливый тип ухватил со стола листочек с семью абзацами. Помнится, я вволю порезвился на малюсеньком семиабзацном пространстве, представляя Б.Дикштейна громким, незамысловатым человеком. Гамов быстренько пробежал глазами и предложил: мол, старик, я попытаюсь пристроить в «Метатекст» или в «Новое литературное обозрение», или в «Литературную жизнь Москвы», или в «Венок аутсайдеров»… словом, гонорар пополам. И смотрит с эдакой надеждой. Тогда эта идея показалась мне ужасно забавной. Похмыкав, я согласился. Через месяц он пришел, неся лицо, исполненное четкого потрясения. Мол, старик, ты не представляешь, тебя взяли везде… Вот деньги, давай еще. Вот про то давай. И про вон то. Деньги носит исправно, не забывает об авторских экземплярах; словом, из отвратительной коммуникации вышел превосходный литературный агент. Мы контактируем раза два в месяц. Я для него – несушка золотых яиц. Он даже научился подлаживаться ко мне. Стал не таким громостремительным, вихри уже не исходят от него при движении по моим комнатушкам. Уважает и бережет. Как лестно! Простите мне это поверхностное тщеславие – оно представляет собой декорацию внутреннего комфорта.
Мои «внешние» тексты (статьи, рецензии) – нарасхват. Мои «внутренние» тексты (в них-то действительно есть какая-то трепетно-расплывчатая искра смысла) Гамов дважды где-то показывал после моих многонастойчивых просьб и боится их теперь, как чумы. Мол, старик, непроходимо. Можно испортить себе имидж растусованного критика, останемся на бобах. Мол, фильтруй запросы. Я, конечно же отступился, хотя и не перестал эманировать подлинные, «внутренние» тексты. Просто больше не пытаюсь вытолкнуть их наружу, за пределы убежища. Их ведь почитали, а двое даже их прочувствовали. Чего ж еще?
Однажды Гамов вывел меня в свет. Тогда я уже и вправду был известным критиком. Точнее, мне сказали (говорили многие, во всяком случае, больше одного, и, по всей вероятности, больше двух, а понял я это из слов одного-единственного человека – Гамова), что я известный критик. Я принял за истину, что я известный критик, потому что это высказывание было источником для приятных ощущений. Так вот, однажды Гамов мне сообщил: тебя, мол, старик, не существует. Ты не являешься реальностью. Для меня это был сложный и довольно забавный вопрос, если угодно, повод к интеллектуальной игре в виде вычурной карусели… Скажем, если сразу миновать тривиальное вступление о том, что есть реальность и можно ли пользоваться субстанциальными определениями сути этого понятия, то набредаешь на экзотическое чувствование: действительно, я – не реальность, а процесс наблюдения из какой-то бесконечно внешней точки за траекторией перемещения некоего объекта в пространстве и времени; названный объект идеально вписывается в суждение наблюдателей, полностью погруженных в реальность этого пространства и этого времени, что поименованный объект и есть – я. Более того, на глубинном уровне наблюдение ведется за первичными реакциями я-объекта на окружающую реальность во всем диапазоне ее воздействий, а не за тривиальной траекторией. И только фиксацию ощущений я-объекта в момент первичной реакции (назовем эту фиксацию чувствованием – условно, должно же быть какое-то слово) я-процесс мог бы признать бы действительно реальной… Гамов должен бы признавать реальным я-объект, но сам Гамов – часть реальности пространства-времени в которые погружен я-объект и которые суть обстоятельства, а не реальность первого порядка (чувствования). Он сам и я-объект принадлежат к реальности-2, т. е. к обстоятельствам, условиям наблюдения за чувствованиями. И Гамов, и я-объект недостаточно реальны. Парадоксально! Как может одно недостаточно реальное называть другое недостаточно реальное нереальным? Есть в этом какой-то недобрый, но веселый трюк. Один подслеповатый старик ругает другого подслеповатого старика слепцом… Разумеется, я не хотел вдумываться по-настоящему далеко и блуждать изящными лабиринтами интеллектуальной бесполезности: обременительно помнить, как пришел к повороту, на котором решил вспомнить, как пришел к нему. Да и сама связь между словами и явлениями всегда фальшивит на множество ладов. В лучшем случае я умею ощутить смысл связи между термином и тем элементом в сложном комплексе явления, который в наибольшей степени соответствует термину; но при этом я сам отыскиваю этот элемент, выделяю его, превращаю его в своего рода сердцевину явления (ведь термин реферирует именно к нему), а в результате оказываюсь у разбитого корыта: выделенный с таким трудом сердцевинный элемент быстренько расползается в новый сложный и самостоятельный комплекс элементов; одновременно термин и то явление, на которое я осмелился посмотреть в самом начале, затевают спор, кто из них первичен (явление породило слово или слово сгруппировало отдельные элементы в целостный комплекс – явление). Всякий раз я оказываюсь с текучим хаосом в ладонях… Я давно перестал пристально вглядываться в явления и бродить по лабиринтам их оценки. Явления пугаются, убегают, они этого не хотят. Да и к чему? Хаос наполнен элементами, которые делятся на более мелкие элементы, а те – на еще более мелкие, покуда не выглянет совершенная пустота. Что не возьми, все может быть названо реальным лишь очень условно, а в действительности остается игрой составных пустот.