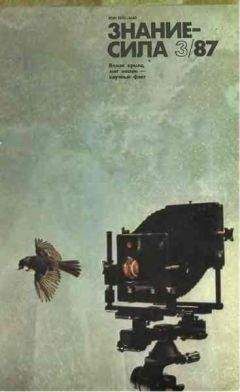А Каргин - Торшер для лаборанта
Потом, когда Иван Игнатьевич, махнув рукой, юркнул в свой переулок, Василий Лукьянович замедлил и без того неторопливый шаг. Сейчас пройдет он мимо глухого куба бойлерной с намалеванными на грязной стене спадающими буквами ЦСКА, минует перевернутую урну у подъезда, откроет визгливую створку с красной фанерной заплатой и станет подниматься, хрустя скорлупой у мусоропроводной колонны с вырванными крышками. Он войдет в квартиру, где делит стол и постель с женщиной, много лет назад пришедшей, чтобы досадить другому (как и он привел ее, чтобы досадить Марианне и забыть ее плечи в соленых каплях), да и оставшейся - стирать и стряпать, гасить в себе и в нем вожделение и молчать, молчать, молчать. Он распахнет окно, выходящее на крутой подъем к нефтебазе, где надсадно воют бензовозы, он откроет окно, эх, дятлы-рояли, и высунется до пояса...
Иван Игнатьевич торопился. Он ждал сегодняшним вечером в гости Ксению Ивановну. Она обещала прийти на ужин к половине восьмого. Иван Игнатьевич летел домой. Сейчас он войдет к себе, отыщет кнопку среди корней, впустит этот задумчивый свет, похожий на свет забытого фонаря в листве ночного парка. И лишь две мысли слегка тревожили Ивана Игнатьевича. Во-первых, дятлы селятся в дуплах, и гнезд никогда не вьют. И, во-вторых, он твердо помнил, что серебряные кольца для салфеток мать продала сразу же после войны.
Василий Лукьянович распахнул окно, выходящее на крутой подъем к нефтебазе, откинул створки, эх, дятлы-рояли, и высунулся до пояса. Он увидел красную глину азовского пляжа, вдохнул запах степи и моря, горечь и соль коснулись губ. Там, где вода теряет прибрежную желтизну и сливается с сине-зеленым небом, глаза схватили маленькую белую запятую - баркас чудака или городского бездельника: какой серьезный рыбак выйдет в море в этот час. Да и не ходят теперь рыбаки под парусом.
Но это был парус. А над ним, но ближе, на густо окрашенном холсте неба, стремительную двойную линию выводила пара сизых точек. Чайки.