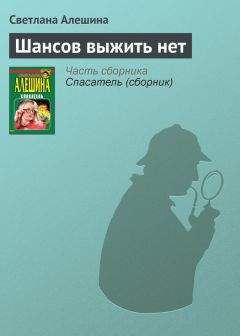Говард Лавкрафт - Единственный наследник
Потерпев поражение и на данном направлении своих поисков, я вновь обратился к своему старому другу Гэмвелу, который по-прежнему оставался прикованным к постели, причем состояние его здоровья заметно ухудшилось. Лечащий врач Гэмвела, с которым я однажды столкнулся у входа в дом, впервые намекнул мне, что бедняга может и не выкарабкаться, а потому просил излишне больного не волновать и не утомлять чрезмерно длинными беседами. Тем не менее, я намеревался выведать у него о Шарьере все, что только было можно, хотя следовало признать, что даже не предполагал, сколь напряженными и выматывающими окажутся те поиски, которые я начал с неохотной подачи того же Гэмвела - настолько, что, как заметил при нашей новой встрече мой друг, что они крайне неблагоприятно отразились на моей внешности.
Покончив с формальными приветствиями и расспросами о здоровье, я перешел к интересовавшей меня теме разговора, Заметив Гэмвелу, что меня крайне заинтересовало мое новое жилище, я заявил, что хотел бы как можно больше узнать о его покойном обитателе, поскольку мой друг как-то упоминал, что изредка встречался с ним.
- Но это же было несколько лет назад, - возразил Гэмвел. - Вот уже три года как он умер, значит, дай-ка вспомнить... да, кажется это было в 1907-м.
Я был поражен.
- Ты что, хочешь сказать, за двадцать лет до его смерти?!
Однако Гэмвел настаивал на названной им дате.
- И как он выглядел? - спросил я.
Увы, нетрудно было заметить, что болезнь и старость уже сделали свое пагубное дело, иссушив некогда блестящий мозг моего друга, потому как ответ его прозвучал более, чем странно.
- Возьми тритона, дай ему немного подрасти, научи ходить на задних лапах и одень в изысканный костюм, - ответил Гэмвел, - и ты получишь облик доктора Жана-Франсуа Шарьера. Помимо всего прочего, у него была очень грубая, почти ороговевшая кожа. Холодный был он какой-то, словно жил в другом мире.
- Сколько ему было лет? - спросил я. - Восемьдесят?
- Восемьдесят? - задумался мой друг. - Когда мы встретились впервые, мне было лет девятнадцать, и он выглядел на все восемьдесят, А двадцать лет назад - Бог мой, Этвуд, - он должен был быть уже совсем стариком, но при этом, казалось, ни чуточки не изменился. Получается, что он и тогда тоже выглядел на восемьдесят? Могло мне так показаться по молодости лет? Возможно. А потом, через двадцать лет, он умер.
- Значит что. Сто?
- Получается, сто.
Надо сказать, Гэмвел не особенно меня обнадежил. Опять все получалось как-то расплывчато, неконкретно, не было никаких фактов - одни впечатления, чьи-то вспоминания, да и Гэмвел его почему-то недолюбливал, хотя и не говорил, за что именно. Может, на его мнение повлияла некая профессиональная ревность, о которой он не хотел сейчас распространяться?
После этого я перешел к соседям, хотя они в своем большинстве оказались молодыми людьми и почти не помнили доктора Шарьера. Впрочем, все почти в один голос отмечали, что не хотели бы иметь подобного соседа рядом с собой - постоянно возился с какими-то ящерицами и прочими "гадами", черт-те знает что за эксперименты ставил в своей лаборатории, ну, и все такое. Среди знавших покойного оказался лишь один человек преклонных лет женщина по имени Хепзиба Коббет, которая проживала в небольшом двухэтажном домике непосредственно за стеной сада Шарьера. Я застал ее в довольно немощном состоянии, сидящей в кресле на колесах и постоянно находящейся под присмотром дочери - женщины с орлиным носом, искоса поглядывавшей на меня своими холодными глазами из-за поблескивавших стекол пенсне. Поняв, что я недавно поселился в доме Шарьера, и услышав его имя, старуха, как мне показалось, заметно оживилась.
- Долго вы там не проживете: это дьявольский дом, - проговорила она подчеркнуто- решительным тоном и тут же затряслась в быстром старческом кудахтанье. - Я на него уже давно-о глаз положила. Высокий такой мужчина, изогнутый как серп, и с крохотной бороденкой, как у козла. И еще что-то там всегда ползало у его ног, я даже рассмотреть не смогла. Длинное такое, черное, слишком большое для змеи - хотя всякий раз, когда я останавливала взгляд на этом самом Шарьере, мне. на ум почему-то приходили именно змеи. И кто это там кричал у него в ту ночь? А потом еще лаял у колодца - .лисица, что ли? хотя я видала и лисиц, и собак. Завывал, словно тюлень какой. Да, многое я повидала, должна вам сказать, но разве кто поверит бедной старой женщине, стоящей одной ногой в могиле? И вы тоже не поверите - никто не верит...
Ну и что я мог в этой связи подумать? Возможно, права была ее дочь, когда, провожая меня до дверей, сказала:
- Не обращайте внимания на мамину болтовню. У нее тяжелый атеросклероз, от которого она временами кажется совсем полоумной.
Однако я отнюдь не был склонен считать миссис Коббет, полоумной, ибо, когда она говорила, ее блестящие глаза остро поглядывали в мою сторону, как если бы втайне наслаждалась какой-то известной лишь ей одной шуткой, причем столь грандиозной и загадочной, что даже самые приблизительные ее очертания были недоступны разумению ее близорукой и мрачной дочери-сиделки.
Между тем, меня, казалось, на каждом шагу подстерегали разочарования. С нескольких делянок информации я смог собрать урожай, ненамного превышавший то, что давала любая из них. Газетные досье, библиотеки, записи - все факты, которые мне удалось обнаружить в них, сводились лишь к дате: постройки дома - 1697, и к дате смерти доктора Жана-Франсуа Шарьера. Если история города и хранила в своих анналах смерть еще какого-то, второго Шарьера, то о ней не сохранилось абсолютно никаких официальных записей. Мне представлялось просто непостижимым, что смерть сразила также всех остальных членов семьи доктора, причем все они как один скончались раньше последнего жильца дома по Бенефит-стрит. Как я ни ломал голову над этой загадкой, получалось, что дело обстояло именно так, поскольку для иных предположений у меня попросту не было никаких оснований.
Был, правда, еще один дополнительный факт, а именно фотопортрет доктора, который я, можно сказать, случайно обнаружил в доме. Несмотря на то, что под застекленным куском картона, висевшим в самом дальнем и весьма труднодоступном углу комнаты верхнего этажа, никакой таблички с его фамилией как таковой не было, однако красовавшиеся снизу отчетливые инициалы "Ж.Ф.Ш." говорили сами за себя. На снимке был запечатлен аскет с худощавым, широкоскулым лицом, украшенным чуть растрепанной козлиной бородкой; бледные щеки ввалились, а темные глаза словно горели идущим изнутри пламенем, что лишь усиливало впечатление крайней изможденности и чуть ли не смертельной болезненности этого человека.