Ольга Ларионова - Выбор
Раньше контакт с электронным "котом" наступал так естественно и быстро, что Дану не приходило в голову анализировать собственные ощущения, тем более размышлять о том, как же это происходит у других - так ли легко? Или снять пси-структуру его. Дана Арсиньегаса, так несложно ввиду ее крайней примитивности - ведь срисовать гипсовый куб несравненно легче, чем Венеру Каллипигу? Тогда Мясокомбинат прав. Проблема надежности колес и манипуляторов на порядок ниже проблемы целости рук и ног. Сида хватило на второе. Дана - только на первое. Тривиальное механистическое мышление это не тот аппарат, который стоит предлагать вместе с чистым сердцем и умелыми руками на период двухмесячного отпуска... Во всяком случае здесь.
- Пациент, вы готовы?
Он и не заметил, как сестра ушла за перегородку. Смотровая щель, через которую, впрочем, видно такое же, как и под ним, мнемокресло и такой же шлем. И марлевая повязка до самых глаз - неподвижных, немигающих, прозрачно-светлых глаз, где только четкий темный ободок отделяет радужную оболочку от голубоватого белка. Стоячие, ледяные глаза.
- Я готов... сестра.
- Доктор Уэда разрешил вам вписать в память тридцать тысяч мнемоединиц, но с вечера вы ничего не заказали...
Обычно он пользовался этой возможностью и, благо шлем на голове, раз в два-три года, когда обновлялся отпечаток его памяти, механически "вписывал" в свой мозг то классическую латынь, то теорию внеслучайностей Чиппинхолда, то драмы Корнеля. Последнее, правда, он сделал напрасно: за кулисами давно уже было подмечено, что роли и партии, заученные механически, не приносят счастья даже на любительской сцене. Но ведь по-настоящему крупных удач у него не было и среди ролей, подготовленных естественным образом...
- Бог с ними, с мнемоединицами. Делайте снимок.
- Но доктор Уэда оставил для вас вот это. - Сквозь смотровую щель видна надпись на кассете: "Методика постановки эксперимента в естественных условиях околополярных областей Марса".
Разрешение в медицинской карте, шлем на голове, никаких физических усилий. Правда, потом придется взглянуть на этот текст глазами, для закрепления, - но даже не читать. А сейчас от него требуется одно: _захотеть принять информацию_.
- Спасибо, сестра, что-то не хочется.
Спокойные, не способные ни удивиться, ни опечалиться, глаза. Если бы на ледяном Юпитере существовали какие-нибудь сапиенсы, у них были бы такие же телескопы - это факт. А вот голос и совсем неожиданный - глубокий, вибрирующий. Хорошо поставленный голос. И странное ощущение, как будто он уже видел когда-то и эту фигуру, и глаза, и слышал это контральто, но все это активно противилось тому, чтобы быть объединенным в один образ, - эти глаза Сольвейг, голос негритянки Олимпии Ватт и движения... да принцессы Береники, не иначе.
Не компоновалось это в одну реальную женщину.
- Пациент, сосредоточьтесь, пожалуйста: даю пятнадцатисекундную готовность.
Ну, наконец-то. Щель сомкнулась, свет начал медленно угасать. Еще немного, и на несколько минут (а может - долей секунды) он останется в полной тишине и темноте. Может быть, это и не свет выключался, а он сам переставал видеть и ощущать. Сейчас он попытался поймать этот миг отсоединения от внешних раздражителей, как в детстве ловил и не мог поймать момент перехода ко сну. Но сознанию не за что было уцепиться - все внутри бокса было белым, гладким... Даже дверь. Дверь без ручки. Черт, абракадабра, пошло выключение сознания... Нет. Вот и еще секунда. И еще. Почему именно здесь - дверь без ручки? Бессмыслица. Ага, угасание... дверь... дверь, через которую нельзя выйти... некуда выйти... дверь в никуда... дверь...
- Арсиньегас! Дан Арсиньегас!
Его уже зовут, а он еще не вспомнил. Это _нечто_, такое огромное, ворочается в его сознании бесформенной, неопознаваемой тушей; оно слишком близко, чтобы его можно было рассмотреть, - это словно книга, которую пытаешься прочесть, держа ее на дюйм от зрачка. Строчки сливаются в расплывчатую сетку, и больно глазам. И еще это похоже на мнемовпечатку, когда в первую минуту пробуждения даже толком не помнишь, что же такое подарили твоей памяти, а берешь томик Корнеля, из которого пока не помнишь ни звука, и не читаешь - пробегаешь глазами страничку, эти ни с чем не сравнимые по гордости строфы:
"Будь Сидом; этот звук да рушит все преграды,
Да будет он грозой Толедо и Гранады..."
и вся страница, от первой до последней строки, словно проявляется; слова четки и звучны, они и видны, и слышны, и врезаны в твой мозг отныне и навсегда.
Но открыть книгу необходимо, иначе воспоминание так и останется смутным контуром.
Он снова слышит шорох, но теперь это не шепот, а просто шуршанье накрахмаленного платья, и перед ним уже стоит женщина - впрочем, это всего лишь сестра, та самая сестра с царственными жестами и ледяными глазами.
Спокойные, внимательные глаза приближаются к нему. Вот все, что теперь ему отпущено, - доброта, предписанная клятвой Гиппократа. Доброта одной из тысяч сестер к одному из миллионов пациентов. Доброта, у которой вместо лица - стерильная маска.
- Маска... Да снимите же маску... - Он никогда не думал, что едва заметное движение губ может отнять столько сил. Кресло мягко проваливается куда-то в дымную, тошнотную глубину, и в этом лиловом мареве каменеют над ним сотни неестественно выпрямившихся ледяных фигур, и сотни глаз, не мигая, вперились в него, и сотни марлевых масок падают, падают, падают, падают шелестящим снеговым роем, и сотни лиц...
Лицо. Замирающее от страха быть неузнанным, милое, единственное, любимое лицо. И чудо появления этого лица именно сейчас, в миг самого страшного и непереносимого отчаянья.
И только после этого - имя.
С радостной, поспешной готовностью память возвращала ему все чудом сбереженные крохи прошлого - и тот дождливый, неприкаянный вечер провалившихся с треском школьных каникул, и ступени пологой лестницы, на которой их кто-то познакомил, и бестолковая суета недоодетых, недогримированных мальчишек и девчонок - неразбериха, предшествующая неумелому любительскому (и заранее обреченному) спектаклю; и ее лицо во втором ряду - недетское спокойное лицо, которое он потом с такой страстной яростью клял, боясь увидеть еще раз, и обожествлял, разыскивая всю оставшуюся жизнь.
Но так и не увидел больше ни разу.
Он научился лгать самому себе, говоря, что это была лишь случайная встреча, так задевшая его четырнадцать лет назад. Но сейчас то, что они встретились снова, не могло быть простым случаем - это было волшебство, не поверить в которое значило бы совершить смертный, непоправимый грех. И он знал, что никогда не совершит этого греха, ибо не расстанется с этой женщиной ни на день, ни на час, ни на миг. И если на их пути встанет смерть - он не переживет эту женщину.
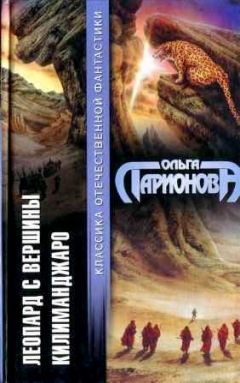
![Ольга Ларионова - Солнце входит в знак Близнецов [Страницы альбома]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)