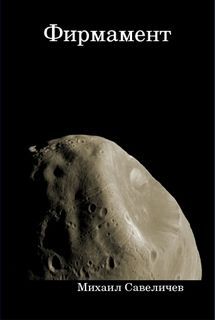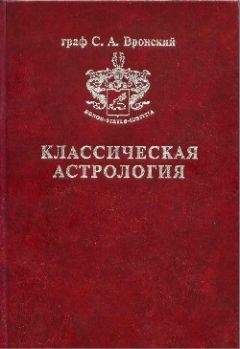Михаил Савеличев - Фирмамент
Кирилла ящик не волновал. Удручающее беспокойство выродилось в эйфорию беззаботности под розовеющим небом. Трога лениво петляла среди меона снега и камней, и оставалось только следовать предуготовленному вечностью пути, игриво поводя дулом гранатомета из стороны в сторону, пугая воображаемых врагов и оставляя равнодушными вздымающиеся склоны нунатак.
- А мне здесь нравится, - оглянувшись помахал он Одри рукой.
- Холодно, - пожаловалась девушка.
- Предпочла бы упасть на родине предков?
- Нас бы уже жарили на вертеле, - мрачно пообещала Одри.
- Вот поэтому мне здесь и нравится, - удовлетворенно кивнул Кирилл.
Одри остановилась, откинула капюшон и отсоединила маску. Зажмурив от слепящего света глаза, она набралась смелости и вздохнула здешний воздух, полный мельчайших колючих игл нестерпимого мороза, густой и безжизненный, создающий иллюзию полноты легких, глубины вздоха, но скупо отпускающий каплю жизни, скорее отнимающий ее у рискнувшего на подобное интимное слияние человека. И было в этом обмане высочайшая правда остановки существования, отказа от движения, презрения к времени, невероятная стойкость к соблазну тепла и лета. Метафизическая абсолютная родина Человечества, подлинная обитаемость, бесконечный символ пребывания сгинувших поколений в бессмысленной стали космических городов среди камня и льдов других планет и спутников, мудрое предсказание конца очередной эволюционной ошибки.
- Ну как? - полюбопытствовал Кирилл.
- Ужасно, - призналась Одри, отдышавшись теплом кондиционированного воздуха. - Кладбище надежд и стремлений. Здесь тела будут разлагаться, пожираемые льдом и морозом...
- Какой ужас, - передернулся Кирилл. - Не пугай меня. А то я сейчас тоже пальну в красный свет.
- Оно этим и питается. Разве ты не понял?
- Чем питается? Кто питается?
- Оно, - пояснила Одри. - Этому не нужны наши жизни и наши страхи. Этому нужны наша механика, оружие, искусственность. И это оно у нас отнимет.
- Не понимаю я тебя, - вздохнул Кирилл. Они теперь вместе брели впереди группы, держась за руки с пугливостью малых сил.
- Тебе никогда не казалось, что у нас есть миссия? - спросила девушка, крепко сжимая руку.
Кирилл промолчал. Никакой миссии, сверхзадачи и прочих костылей к осознанию собственного величия и неполноценности он не чувствовал, но вот сейчас вдруг ленивая рыба тайной мысли опять пустила рябь чувств, и он понял, что нет у нее никаких слов и прочих артикуляций, а имеется определенное и даже мистическое ощущение какой-то неполноты собственной жизни. Здесь и сейчас оказывались лишь обманчивыми моментами уплотненной целостности, но за ней проглядывали иные картины забытых снов, фантазий, уверенностей. Только тень отбрасывалась на розоватую белизну края Ойкумены, одна из множества других вариантов, вариаций, возможностей, случайностей.
Коффин не был тяжел, но в нем скрывалось какое-то оцепеняющее сопротивление, изнуряющая инертность, словно взбираешься на пологий бархан, но вязкий песок утайкой крадет силы и дыхание, опустошает, потрошит тело, расколачивает однообразие мира в усталые видения заблудившегося пилигрима. Казалось, ящик с трудом протискивается сквозь пространство Ойкумены, цепляется за него бесчисленными зазубринами и выступами, тянет за собой затяжки иных вариантов и миров, распуская изъеденную молью пряжу Хрустальной Сферы. В том, что нельзя назвать тьмой, Мартин ощущал некие скопления, сосредоточения качеств, по своему представляя излучаемый их ношей свет, или что там это вообще было. Время стучалось в алеф и омегу металла коффина, выбивая лунки и щербинки в округлой гладкости ящика, точно как оно заражает болезнью последовательности, инобытия вечности беззащитные лики планетоидов и планет, пригоршнями бросая в них каменные обломки и украшая пустыни татуировкой кратеров.
Представлять окружающий лед было проще. Пространство в холодной дрожи изгибалось дробными поверхностями, и выверенная математика степенных производных диктовала тот единственный верный шаг, который необходимо было сделать. Это чудовищно сложно объяснить остальным, как невозможно понять природу света только по длине волны. Их неосведомленность обоюдна. Страшно одиночество. Одинокое пребывание в меоне чистой математики, ради тепла руки другого требующее отказаться от проницательности, надменности, осведомленности, выпасть из обтекающего свет хаоса, стать как все бессильным, убогим, сладострастно нащупывая тела тех, кто рядом. И никого рядом, даже не в смысле ощущения, а в какой-то космической пустыне отшельнеческого пребывания, погруженности в стужу бессонного джонта, вырождающего краткость внешнего бытия в вечность когито.
Но теперь за плечами брезжил опустошающий свет. Мартин не жаловался и терпел, но когда-то придется признаться, что серость его родовой тьмы теперь уже действительно превращает его в калеку, в ведомого, что он слепнет по-настоящему, лишаясь в том, что должно спасти, своей волшебной белой трости восприятия застывшего и предназначенного мира. Путь их менялся, каждый шаг уже не был узнаванием отлично заученного урока, а лишь удивлением от новизны, неожиданности текучести того льда, по которому они и тащили невероятную машину человеческой и космической истории. Что в ней? Чья душа обрела пристанище в непостижимой машинерии перводвигателя Ойкумены? Ради искупления какого греха они сведены воедино с гробом надежд?
Вот оно - изменение. Вопросительные предложения вползали в утвердительную устойчивость личной вселенной - все более слепящие блики приближающегося конца.
- А он тяжелый, - как будто пустые звуки реальности могут повлиять на персональный рассвет слепоты.
- Мне сказали, что он полон звезд, - пояснил Фарелл. - Не понимаю, что это значит, но чувствую - правда.
- В любом варианте мы теперь принадлежим ему, - сказал Мартин.
- Смешной воздыхатель, я знаю отлично, что если звезда так ко мне безразлична..., - усмехнулся Фарелл. - Не драматизируй и не рационализируй, твоя интуиция нам еще нужна. А звездам на нас плевать.
- На этой судьбе я отсюда не выберусь.
Розовые полотнища побледнели, наконец-то пропуская феноменальную синеву антарктического ледяного неба - невероятный подарок пустыне и холоду, ответивших взрывом разноцветных огней хрустальной крошки снежных замков и городов, простирающихся по обе стороны истончающегося в тропки ледника. Еще мгновение и привычная наивность сменилась жесткой иронией невероятной прорисованности холодного багрового карлика, оставшегося в смешном одиночестве бездонности. Будь они автохтонами, разразившееся редкостное чудо могло как-то тронуть их чувства, но испорченные ржавыми свитками кабелей над головой, прижимающим к полу потолком бронированных плит, отражающих мутирующий напор открытого пространства, они едва ли обратили внимание на очередную смену декораций в бесконечной комедии их жизни.