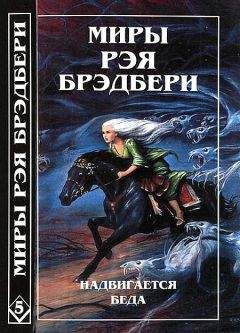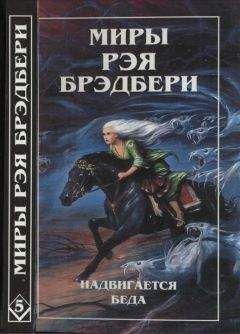Рэй Брэдбери - Механизмы радости
И потом вдруг непрошеными гостями явились строки одного старого стихотворения. Не могу сказать, откуда они взялись в моей памяти. Может, я их где-то прочитала или кто-то мне их процитировал, или я сама бессознательно сочиняла их на протяжении нескольких лет. Однако строки будто полыхали передо мной в темноте, и я зашептала:
Кое-кто живет как Лазарь
В могиле жизни,
Чтобы с опозданием восстать к смерти
В больничных сумерках или в морге.
Следующие строки не возвращались. Я мучилась, повторяя эти слова и стараясь выудить из памяти продолжение, затем вдруг как-то сами собой выпрыгнули из темных глубин сознания последние пять строк:
Уж лучше пить глазами горечь ледяных небес на Севере,
Чем жить слепцом мертворожденным, подобьем призрака.
Взамен потерянного Рио влюбись в арктические берега!
О ветхий Лазарь,
Изыди вон. [1]
Стихотворение отзвучало во мне и отпустило меня в сон. Мое бдение закончилось, и я спала сном ребенка — в надежде, что утром услышу хорошие новости, которые решат мою судьбу раз и навсегда.
На следующий день я увидела, как он везет инвалидное кресло со своей матерью к концу пирса. Меня так пронзило: вот оно! Правильно! Она сгинет в волнах, через неделю найдут выброшенный волнами труп — страшного морского монстра, сплошное лицо без тела.
Но день прошел, и ничего не случилось. Ладно, решила я, все свершится завтра.
Второй день обещанной недели прошел, потом третий, четвертый, а за ними пятый и шестой. И вот на седьмой день вижу бежит по тропке одна из горничных и верещит, вытаращив глаза:
— Ужас! Ужас! Ужас!
— Что, миссис Харрисон? — вскрикнула я. Мне чуть дурно не стало, однако на моем лице, помимо воли, расплылась довольная улыбка.
— Нет, нет! Ее сын! Он повесился!
— Повесился? — глупо переспросила я. Это меня так ошарашило, что я вдруг принялась ей объяснять самым идиотским образом: — Ничего подобного! Это не он должен был умереть. Это…
Я бы сгоряча выложила все, если бы горничная не схватила меня за руку и не потянула за собой, приговаривая:
— Веревку срезали. Он, слава Богу, еще живой. Быстрее же, быстрее!
Еще живой? Тут она глубоко заблуждалась. Они вынули его из петли, и он дышал. И продолжал дышать все последующие годы. Однако я бы поостереглась называть его действительно живым. Он не выжил в тот день. Нет.
Зато ей это лишь прибавило жизни. Этот его неудачный порыв к свободе ей был как с гуся вода. Однако попытки бегства она ему никогда не простила.
— Что ты хотел этим сказать? Что ты хотел этим сказать? — орала она на него, когда он лежал с закрытыми глазами и бледный как смерть в их летнем домике и потирал себе горло.
Примчавшись туда, я так их и застала: он, судорожно глотает воздух, и она, злобно пританцовывает рядом:
— Что ты хотел этим сказать? Что? Чего ты этим хотел добиться?
Глядя на распростертое на полу тело, я вдруг догадалась, что он хотел убежать от нас обеих. Ибо мы обе были ему невыносимы. Я тоже не простила ему. То есть не могла простить очень и очень долго. Но потом я ощутила, что моя застарелая ненависть к нему превращается во что-то иное, в некую тупую боль. А в тот день я стрелой вомчалась за врачом. За моей спиной миссис Харрисон продолжала вколачивать гвозди по самую шляпку:
— Что ты хотел этим сказать, глупый мальчишка? Что? Что?
Осенью того же года я вышла замуж за Пола.
И годы побежали однообразной чередой. Раз в году, на протяжении летних месяцев, Роджер регулярно бывал в павильоне и заказывал мятное мороженое. С ложечкой в вялой руке он грустно поглядывал на меня, однако никогда больше не называл по имени и ни разу не упомянул о своем давнем обещании.
На протяжении тех сотен месяцев, что я была женой Пола, мне не раз случалось думать, что Роджеру совершенно необходимо — теперь уже только для себя, исключительно для себя — что-то предпринять: восстать в один прекрасный день и истребить агрессивного дракона с уродливой, густо напудренной рожей и лапами, покрытыми сухой, чешуйчатой кожей. Во имя Роджера и только Роджера Роджер обязан положить этому конец.
Ну уж в этом-то году он это наконец сделает, думала я, когда ему исполнилось пятьдесят. То же я думала, когда ему стукнул пятьдесят один. То же я думала и годом позже. А между сезонами, проглядывая чикагские газеты, я ловила себя на том, что надеюсь наткнуться на ее фотографию с ножом в сердце — огромный отвратительный окровавленный желтый цыпленок. Но увы, увы, увы.
До того как они объявились снова сегодня утром, я почти выкинула их из памяти. Роджер ужасно постарел и рядом с ней больше похож на старенького шаркающего мужа, чем на сына. Волосы седые с прожелтью, спина сгорбленная, синие глаза стали водянисто-голубыми, во рту не хватает зубов. Разве что иссохшие руки с ухоженными ногтями утратили лишний жир и стали выглядеть болеe энергичными.
В полдень он остановился у входа в павильон — одинокий жалкий бескрылый ястреб, глядящий с тоской в небо, куда за всю жизнь так и не решился взмыть. Потоптавшись у входа, Роджер открыл дверь и быстро прошагал ко мне.
Впервые на моей памяти его голос поднялся почти до крика:
— Почему ты не сказала?
— Не сказала что? — спросила я и стала, не ожидая заказа, накладывать в розетку шарики мятного мороженого.
— Одна горничная проговорилась, что твой муж уже пять лет как в могиле! Пять лет! Ты была обязана сообщить мне об этом!
— Что ж, теперь ты знаешь, — только и промолвила я.
Роджер медленно опустился на стул.
— Господи, — воскликнул он, отправил в рот первую ложечку мороженого, просмаковал ее с закрытыми глазами и заявил: — Как горько!
Покончив с мороженым, он сказал:
— Анна, я никогда не решался спросить. У вас были дети?
— Нет, — ответила я. — Сама не понимаю почему. И думаю, теперь уже никогда не пойму.
Я оставила его за столиком с новой порцией мороженого, а сама пошла мыть посуду.
Около девяти часов вечера я услышала чей-то смех возле озера. Чтоб Роджер когда-либо смеялся — такого я не помнила. Разве что в самом раннем детстве. Поэтому мне и в голову не могло прийти, что это он приближается к павильону. Но чуть позже кто-то решительно распахнул дверь, и я увидела на пороге Роджера. Он возбужденно размахивал руками, переполненный безудержным весельем.
— Что случилось? — спросила я.
— Ничего-ничего! Ничего такого! — восклицал он. — Все отлично! Кружку пива, Анна! Налей кружку и себе! Выпей со мной!
Пока мы пили пиво, Роджер хохотал и подмигивал, но потом вдруг стал невероятно тих и грустен. Хотя продолжал улыбаться. И я заметила, как удивительно он помолодел.