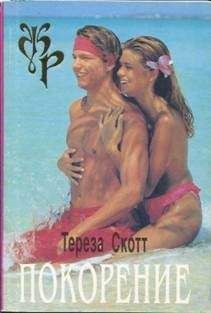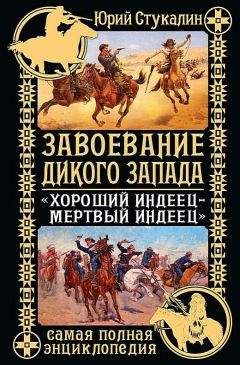Владимир Колин - Зубы Хроноса
Парпария считает это возможным… И тогда вместо предполагаемой опасности мы станем носителями организованной мутации рода. Понимаешь? Через нас, через тебя человечество добьется вечной молодости, мы будем новыми Прометеями, которые принесут на Землю искру бессмертия!
Джованна еще никогда не видела его таким красивым.
— И вдруг все стало просто… — повторила она его слова. Ее охватила безграничная радость, и она вновь почувствовала потребность оттянуть, задержать на минуту осознание того факта, что все, мучившее ее в последнее время, устранено. Еще полная удивления, она пробормотала: — И ты хочешь сказать, что все, все люди?…
— Да, Джованна. После тебя — все.
«Если опыт окажется удачным…» Но в ее сердце больше не было сомнений. «Парпария считает это возможным». Она вдруг почувствовала себя легкой и полной жизни, которая навсегда, член за членом, завоевывала ее тело. Ей показалось, что на ее языке появился какойто необычайный вкус, и она удивленно произнесла: «Вкус счастья…» Долго сдерживаемое, чтобы не сразу же, на месте проявить всю свою силу, счастье ее ошеломило. Сильная волна ударила в грудь и прервала дыхание. Она представила себе множество кораблей, которые несут людей в зоны излучения, чтобы подвергнуть странной благотворной операции — так же, как сейчас поезда везут их на пляжи Земли. Новое человечество, которое ничему не угрожало и несло все вперед.
— Поэтому ты обещал, что мои стихи будут жить вечно?
Оказывается, Витторио имел в виду не то, что он будет слушать их и тогда, когда она уже давно превратится в прах. И не только то, что она, быть может, не умрет. Уже тогда, в ту ночь, когда они встретились с биологом, он ясно видел «Проект Дж.». Но почему?
Почему именно она оказалась достойной того, чтобы поднять человечество на высшую ступень — ступень бессмертия? Чем заслужила она возможность преодолеть жребий всех поэтов, не знающих своих будущих читателей, а нередко — и судьбы своих произведений?
Сколько писателей воображало, что они воздвигли себе памятник! Гораций, Шекспир или Пушкин упоминаются в связи с этим лишь потому, что их памятники выстояли. Статуи других опрокинуты, погребены под землей. Но всех их вдохновляла та же вера.
— Почему? — спросила она вслух.
— Ты имеешь в виду название проекта? — спросил Витторио, не понимая. — «Дж.» — от Джованны. Джованна, почему ты плачешь?
— Я не плачу, — сказала Джованна.
Фотограф невидимого
Пожалуй, эта история никогда не увидела бы света, если бы в одно прекрасное утро один вконец отчаявшийся человечек не проснулся с мыслью, что он должен, во что бы то ни стало должен сделать совершенно необычную фотографию. По правде сказать, эта мысль была подсказана ему главным редактором журнала «Семана илюстрада»,[2] не преминувшим и на вчерашнем заседании подчеркнуть банальность снимков, которыми человечек неутомимо снабжал страницы журнала. Все взгляды устремились к нему, и он тщетно пытался спрятать свои усы за широкими плечами редактора спортивного отдела.
— Нечего прятаться, гордость нашей фотографии! — прошипел главный редактор. — Если вы и завтра не принесете с карнавала приличных фотографий…
В зале воцарилась многозначительная тишина, но фотограф не слышал продолжения страшного ультиматума: обхватив руками голову и упершись локтями в колени, он, казалось, погрузился в скорбное созерцание бездонной пропасти отчаяния, разверзавшейся прямо у ножек его стула. Заседание шло своим ходом, редакторы обменивались предложениями, просматривая содержание праздничного номера, а он думал о фотографиях, которые должен будет сделать завтра, и, как обычно, проклинал свое имя, уверенный, что все его несчастья проистекают из составляющих это имя слогов, раз и навсегда запечатлевших его судьбу.
Он признавал, что старик Мигуэль Оргульо[3] был горделивым человеком, — подлинным олицетворением своего имени. Даже выполняя свои скромные обязанности служащего отдела записей гражданского состояния, он с таким величественным видом заносил в регистры имена младенцев, рождавшихся в городке О… (куда он был назначен), что у людей складывалось впечатление, будто импозантный служащий не просто констатирует факт появления на свет младенца мужского или женского пола, но и решает — с должной серьезностью и на всю жизнь — его судьбу. Смертные случаи, имевшие место в городке О…, не приписывались больше хрупкости человеческого сложения, а связывались с приговором судьбы, ретроспективно провозглашаемым человеком, олицетворяющим собой всех трех парок. Сидя за столом с непроницаемым видом, дон Мигуэль священнодействовал. Его пальцы со вздувшимися суставами, выпачканные в чернилах и пожелтевшие от табака, держали перо над неопровержимыми документами, раз и навсегда утверждая вступление в жизнь или выход из нее, а его печать накладывала последнюю резолюцию на не подлежащее пересмотру решение. Неподкупный, как судьба, он вносил порядок в хаос. Буквы, выписанные его каллиграфическим почеркрм, вызывали радость или горе в далеких ему кругах, которые он не посещал и посещать не стремился: на его долю выпала роль судьи, и он боялся, что, если будет знать своих сограждан, то его симпатии или антипатии смогут повлиять на его решения. Обреченный на одиночество, одетый в любое время года в тот же черный люстриновый костюм, дон Мигуэль медленно проходил по улицам городка, строго отвечая на приветствия сограждан. Он никогда не здоровался первым. Дети убегали от него, старухи смотрели на него с ужасом. А однажды какая-то старая женщина, увидев, как он, высокий и черный, выходит из-за угла церкви, даже упала перед ним на колени. Потом она призналась, что приняла его за ангела смерти.
Может быть, это гордое уединение дона Мигуэля Оргульо, окруженного ледяной атмосферой, в которой не выжила бы ни одна душа, кроме безвременно увядшей души его самоотверженной супруги, или непонятная холодность, рожденная его отношением к своей службе, навсегда закрыли для него путь к другим, лучше оплачиваемым должностям, а может быть, сам дон Мигуэль не хотел допустить перемены, которая лишила бы его права провозглашать в городке О… рождения и смерти. Факт тот, что он умер, не дожив до пенсии, на том же посту, на который вступил, прибыв некогда в этот выжженный солнцем городишко.
— Да, — говорил он жене, превратившейся в мумию из-за разреженного воздуха, которым она вынуждена была дышать возле него, — род Оргульо — это род гордецов.
Но, словно предвидя, что сын, дарованный ему его невзрачной супругой, не снесет на своих слабых плечах груз врожденной гордости, он решился несколько умерить тяжесть неумолимого наследства (темные стороны которого он, может быть, и сам признавал в глубине души) и не дрогнувшей рукой вписал в свидетельство о рождении имя своего наследника — Модесто.[4]