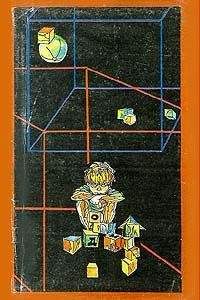Вячеслав Рыбаков - Очаг на башне. Фантастические романы
– Такова новая аглицкая мода, – чопорно сообщил Симагин. Ася щурилась от сдерживаемого смеха.
– А ну, прекрати сейчас же! – сказала она Антону. – Здравствуйте! – поспешно кивнула она Вербицкому. – Ты что это?
– Кес-кесе? – жеманясь, спросил Симагин. Изящнейшим балетным жестом он поддернул брючины, сел и, держа воображаемый лорнет у глаз, принялся лорнировать стол. – Где фрикасе?
– А ты есть не сможешь! – закричал Антон и стал драть с Симагина галстук. – У тебя горло веревкой передушится!
– Прочь с глаз моих! – воскликнула Ася. – Срамота! Взрослый академик, глава прекрасной семьи – хомута прилично навязать не может! – она схватила половник и грозно двинулась на Симагина. Тот вскочил, пискнув: "Консерваторы!" – и, опасливо подтягивая зад, порскнул из кухни.
– Весело вы живете, – сказал Вербицкий. Грызущий яблоко Антон закивал и проурчал с набитым ртом:
– Ага!
– Тебя кто приучил так разговаривать? – спросила Ася. – Проглоти, тогда разговаривай!
Антошка проглотил и вдруг заорал:
– Ага-а!
Вошел Симагин, уже без галстука. Глаза его искрились. Антон, закусив яблоко, показал Симагину два больших пальца.
– Салат покамест ешьте, – сказала Ася, тронув Симагина за локоть. – Мясо неудачное, никак не ужарю.
Симагин и Антон, будто бравые солдаты, захрустели салатом. Это получалось у них как-то на редкость задорно. Вербицкий подключился, глядя на Симагина исподлобья, едва умея скрыть ненависть. Даже поздороваться толком с нею не дал, идиот...
Салат был вкусный.
– Ты-то расскажи что-нибудь, – произнес Симагин с набитым ртом, и Антошка рыпнулся было сделать ему замечание – мол проглоти, потом разговаривай, – но всепонимающая Ася легонько обняла сына за плечи, и тот смолчал.
– Ну что я могу рассказать, – улыбнулся Вербицкий. – Я человек скучный, за рубеж не выезжаю...
Женщина стала оделять их едой, повеяло сытным, душистым запахом. Антошке – ласково, по-матерински, тут все ясно. Вербицкому – нейтрально, спокойно: ешь, мол, не жалко. Но Симагину... Эта ведьма даже картошку умудрялась положить так, что каждым движением кричала: я твоя. Мое тело – твое, моя душа – твоя, и вот эта моя картошка – тоже твоя... Вербицкий заговорил о новой повести, о муках творчества, о писательской Голгофе. Украдкой он взглядывал на Асю. Странно: язык сковало. Не рассказывалось. Самому было скучно слушать кислую тягомотину. Только с Сашенькой пикироваться да Ляпу утешать – вот что я могу... Она слушала. Прежней враждебности не было в ней, но это еще хуже. Безразличие. Вербицкий понял: она приветлива с ним из-за Симагина. Я его друг, вот и все, она приветлива, кормит, слушает, ждет, когда уйду. У Вербицкого перехватило-таки горло, картофель едва не пролетел в легкие. Он достал сигареты.
– Вы же все нуждаетесь... спички дай.
– Валер, прости, не дам, – сказал Симагин. – Антошка... и вообще. Не надо курить, ладно? Вот и Ася у меня уже завязала.
Вербицкий опять ощутил холодное напряжение злобы. Он поспешно спрятал сигареты и засмеялся:
– Это ты меня прости! Забыл! Правильно говорят: в чужой монастырь... Здорово потравил вас в тот вечер, да?
Симагин облегченно улыбнулся.
– Так вот. Вы же все, говорю я – все! – нуждаетесь в лечении. Но уверены, что здоровы. Ты вот возишься со своими спектрами и знать не хочешь, что готовишь гибель человечества...
– Валер, – укоризненно покачал головой Симагин, – послушать тебя, так только писатели не готовят гибель человечества.
– Звучит нахально, да? Но это так и есть. Всякая конкретная деятельность, кроме пользы, приносит и вред. Но человек, который в нее втянут, кормится от нее и продвигается по службе, слепнет. Ее успех есть его успех. Ее престиж есть его престиж. Она занят не миром, а его осколком. Поэтому нужен человек, не участвующий ни в чем. Не сторонник и не противник. У него и будет эта самая общечеловеческая позиция, понимаешь? Он разводит всех по их местам, одергивает всех, кто теряет меру... Поэтому, кстати, писателя бьют все.
– Да я понимаю... Но, знаешь, человек не может быть абсолютно сам по себе, – покрутил головой Симагин.
– Именно! Повторяй за мной! Я – человек человечества! Не семьи. Не профсоюза. Не расы. Я – член вида. Только такой подход дает возможность не делить людей на своих и чужих, а значит – понимать всех, сочувствовать всем, любить всех...
– Чихать на всех, – сказала Ася. Симагин вздрогнул. Они помолчали. Из комнаты доносился захлебывающийся гул реактивных двигателей, прерываемый отрывистыми командами по-марсиански.
– Такое впечатление, – сказал Вербицкий, криво усмехнувшись и ни на кого не глядя, – что весь мир против меня!
– Да побойся бога! – взвыл, как пылесос, Симагин. – Я, что ли? Или Аська? У нее язык просто...
– Конечно, против, – Вербицкий глянул ему в глаза. – Потому что ты не понимаешь меня.
Симагин только руками всплеснул.
– И ты меня!
– Да, но тебе это не важно. Тебе важны твои машины, а не люди – вот в чем разница. А для меня нет ничего важнее, что с людьми из-за машин будет... и не могу тебе объяснить.
– Объяснить – или перекроить по себе? – спросила Ася.
– Всякий, кто объясняет, перекраивает по себе.
– Да, но цели! Один хочет помочь. Другой хочет создать подобие себе и так выйти из одиночества. В первом случае думают о другом, во втором – только о себе.
– Никто никогда не думал бы о другом, если бы не нуждался в нем для себя. Предсмертное раскаяние и покаяние, и просветление воспевалось в религии и в искусстве столь долго именно потому, что они для большинства людей есть единственный момент обретения реального бескорыстия и вызванной им переоценки. Живой корыстен, потому что собирается жить дальше.
– Живой собирается жить дальше, и чтобы его жизнь не превратилась в дуэль с каждым встречным, ради собственной же корысти он должен любить заботиться. Тогда будут любить заботиться о нем. Это не гарантирует от врагов, но гарантирует друзей.
– Ася! Ну разве вы не слышите, это даже звучит нелепо: должен любить! Разве можно любить по долгу?
– Хорошо, – улыбнулась Ася, – поменяйте слова местами, и все станет совсем ясным. Не должен любить, а любит быть должным.
Вербицкий лишь головой замотал:
– Ах, как вы...
Она пожала плечами, а потом неторопливо поднялась и стала мыть посуду.
– Знание того, что все угаснет, – проговорил Вербицкий, – подтачивает всякое желание иметь дело с этим всем. И люди отказываются знать. А кто не отказывается, от того шарахаются: ой, холодно! Вот как Ася сейчас.