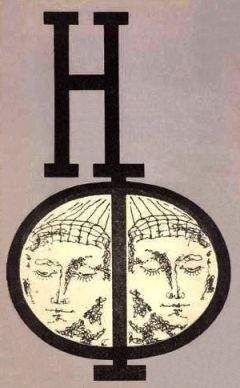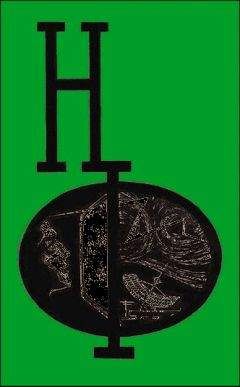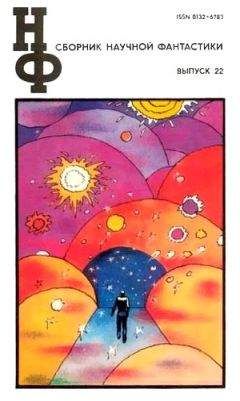Кир Булычев - НФ: Альманах научной фантастики. Выпуск 24
«Собиратель опыта… — вздохнул Веснин. — Опыт!.. Только и дел у космического пришельца или пришельца из будущего, что перенимать у нас опыт. Опыт мужа, опыт жены, опыт приятеля… Как же, — усмехнулся он. — Разуму седьмой ступени без нашего опыта не обойтись!..»
Раздражение, как усталость, скапливалось в Веснине. Невыносимо нудно тянуло мышцы ног, покалывало под лопаткой. Он подумал: если и сегодня не прольется дождь, поубивает нас всех молниями. Как футболистов из Твенте. Меня-то уж точно убьет. Не может не попасть молния в такой напряженный, в такой наэлектризованный узел.
«Опыт… — вернулся к своим мыслям Веснин. — Кто-то из физиков оценил накопленный всем человечеством опыт примерно в 1023 бит. Приличная величина! Но какую же малую ее часть мы преобразуем в конкретную мысль, в конкретное чувство, в вообще явную форму!.. А все остальное идет в избыток, в отход, не используется никак. Хотя именно это, может быть, и хорошо. Ибо, что делать с той, неосознанной частью опыта?…»
«Представь, — сказал он себе, — уносит Иной в чужое пространство мой опыт. Мой опыт со всеми его провалами, заблуждениями, ложью — ящик Пандоры, змеиный клубок, в котором я и сам не всегда могу разобраться. И там, в своих райских галактических кущах, делает явным подсознание такого человека, как я. Да тут ни один космический Фрейд не разберется… Нет! Нет! Такое только присниться могло: существо, коллекционирующее чужой опыт! Что оно с ним будет делать? Зачем ему мое отношение к женщине, к делу, к устройству общества, ко всему тому, чего у него, возможно, вообще нет? Зачем ему, наконец, то, что я сам из себя вытравливаю годами?…»
Он вышел на берег речки Глухой, сел на замшелый завалившийся ствол сосны, закурил, сплюнул в воду.
«Сложная штука — опыт. Не так просто его собрать. Не так просто им воспользоваться. На это вся жизнь уходит и, конечно, не ради коллекционирования».
Опять накатывалась сухая гроза, опять растворено было в неподвижном воздухе электричество, а может, кофе Веснин перепил — сердце у него отяжелело, постукивало нехорошо, торопилось, и весь он был насквозь пропитан нехорошей тяжкой тревогой.
Посмотрел на воду. Темная вода, осенняя. И осенне темнели кувшинки. А дальше шиповник краснел. Перед лужком, на той стороне.
Перед лужком…
Лужок как лужок. Трава. Кустики. Только вот поперек лужка полоска желтая протянулась, будто трава там взяла да пожухла, так вот, по прямой линии, отбитой как по шнурку.
Ну, пожухла и пожухла. Может, ей воды не хватило, мало ли…
Но не по прямой же линии!
Веснин подозрительно взглянул на речку, будто и воду ее должен был пересекать такой вот желтый шнур… Нет. Не пересекает. Мутная вода. Темная. И кувшинки темные, лежат на воде, как на тверди.
«А проверить надо, — оправдываясь, сказал Веснин. — Приснилось или явь, проверить надо. Да и день потерян. Какая работа, если за одну ночь жизнь из объекта чудес превращается в объект статистики…»
«Собиратель опыта!
Конечно, большую часть опыта мы теряем еще до преобразования, но это не значит, что мы готовы его кому-то отдать. Опыт — единственное, что делает нас такими, какие мы есть. И именно им, своим опытом, и следует пользоваться».
Он вспомнил капитана Тимофеева. Был такой. Объявился сам по себе на литературном семинаре. Небольшого роста, широкоплечий, борода, как у адмирала Макарова, китель с шевронами. Настоящий, непридуманный капитан — над Атлантидой ходил не раз, глушил рыбу в гексафлегонах. Ждали от капитана чего угодно, но своего, необычного. А он поднялся и начал: «луч заката прощальный в голубой тишине…», «пики черные грезят небывалыми снами…» На этом Веснин и поймал капитана. В перерыве, в буфете, за рюмочкой, спросил: «Где это вы начитались плохих стишков?» Тимофеев побагровел и схватился за бутылку. «Оставьте, — сказал Веснин, — стишки все равно вздорные!» И предложил: «Хотите, расскажу, как вы их сочиняете?» — «Чеши, крыса бумажная», — буркнул Тимофеев, не выпуская бутылку из мощного кулака. «Вы берете листок бумаги, — сказал Веснин, — и пишете на ней: «Закат», если, конечно, впрямь решили писать о закате. И прозой, без рифм и метра, законов которых не знаете, пишете, например, о деревянной японской тории, об этих ритуальных вратах, похожих на иероглиф и стоящих всегда в воде, на фоне какого-нибудь обрубистого мыса с флаговыми деревьями. Потом вздыхаете, поскольку вам неясна ценность того, что видели и подметили только вы один, и плохими стишками начинаете перекладывать истинно свое в нечто такое, что известно и знакомо всем. Отсюда и «луч заката прощальный», отсюда и «небывалые сны». Отсюда даже единственная приличная ваша строфа: «А вот здесь одноклассница Ася мне читала стихи Маршака». Помните, в стихах о беседке?…»
Тимофеев еще больше побагровел, и Веснин обреченно подумал: не понял, пустит бутылку в ход! Но капитан сдержался, выпил и хмыкнул: «Я таких закатов хоть сто напишу!» — «Сто не надо, но если писать, то только так. О своем. По-своему!»
Вспоминая капитана, Веснин испытывал зависть. Ведь это потом он, капитан Тимофеев, а не Веснин, написал об островах, стоящих над океаном как черные базальтовые стаканы. Это ведь потом он, капитан Тимофеев, написал о подводных течениях и людях, знающих большую глубину, пахнущую люминофорами и жесткими листьями водорослей… И хотя на книге капитана стояло посвящение именно ему, Веснину, создателя «Братьев по разуму» и «Гостя с Трента» это не утешало.
«Я видел то же, что и капитан, — подумал Веснин. — Но я не использовал свой опыт. А капитан все понял, перестроился, он сумел понять. И, конечно, научился работать…»
И вздрогнул.
«Тут поработаешь! При таком визге…»
Визжала вдали Надя.
5
На обратный путь Веснин потратил не более пяти минут. Потом он сравнил это время с расстоянием и удивился — как мало мы себя знаем! То же и о Кубыкине, обогнавшем его у Детского пляжа.
— Я им ничего не давал, — на бегу заявил Кубыкин. — Это Анфед, наверное, сплавал в Завьялово…
Но Анфед в Завьялово не плавал, и парфюмом ни от кого не тянуло. Анфед тащил из воды мокрую Надю. Ванечка же, олицетворение насмешливого спокойствия, стоял на берегу, двигал узкими бровками. Руки он скрестил на маломощной груди — наблюдал, изучал, интересовался. Надя была скользкая, блестящая как русалка. Ее мокрые волосы прилипли к странно уменьшившейся голове, а лента, видимо, утонула. И, увидев Надю, Кубыкин облегченно прохрипел:
— Ну, ты! Кричишь, а живая!
— Глупая! — сказал Анфед, выволакивая Надю на берег. — Нашла место нырять.