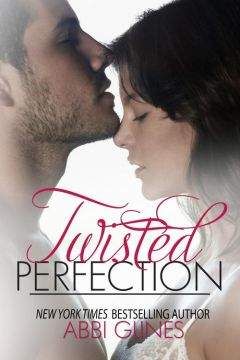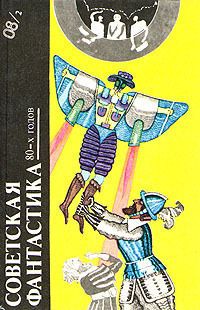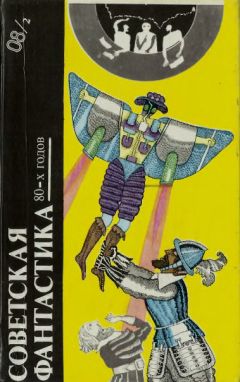Сергей Плеханов - Советская фантастика 50—70-х годов (антология)
Несколько преувеличенной была оценка философской эрудиции Обидина. Знатоком истории философии профессор Обидин не был, хотя сам мыслил глубоко и своеобразно. Но откуда взял этот автор, так же как и другие, сведения об увлечении Обидина живописью? Мне об этом, во всяком случае, было неизвестно.
Была и другая неточность, еще более важная. В одном труде говорилось, что Обидин был непосредственным учеником знаменитого русского ученого, профессора П. И. Бахметьева, открывшего анабиоз у насекомых и млекопитающих, тогда как на самом деле Обидин стал заниматься проблемой анабиоза значительно позже и с Бахметьевым лично знаком не был.
Я выписал все неточности и ошибки, чтобы помочь авторам их исправить.
18
Бедный Митя! Он чуть не лишил себя жизни. Сейчас он лежал в больнице поселка Манжерок, что в трех минутах езды отсюда на машине быстрого движения, лежал под присмотром опытных физиологов, чутких врачей и техников, заботливых кибернетиков.
Как я узнал позже, Митя в своем несчастье был не одинок. Одновременно с ним вышли из строя Женя, Валя, Миша и Владик, экспериментальные «роботы-эмоционалы», как их называли иногда, желая упростить это новое и сложное явление, приспособить к разговорной бытовой речи. У них было и более строгое и научное название, название, более соответствующее их странной сущности, которое я запамятовал. Женя, Валя, Миша, Митя и Владик — одухотворенные, чувствующие, страдающие вещи, проходившие испытания сначала в лаборатории, а потом и в жизни. Сейчас судьбой этих вещей (моя рука неохотно пишет это слово «вещей», выражение, в сущности, сомнительное и неточно отражающее сложный и загадочный феномен), судьбой вещей, или, точнее, существ, интересовалась вся солнечная система.
Мой потомок Павел Погодин аккуратно и своевременно сообщал мне о состоянии Митиного здоровья, как будто он был человеком, этот Митя.
— Сегодня ему лучше, — сказал он мне примерно через неделю после печального происшествия, — значительно лучше. Он уже не бредит и охотно принимает лекарство.
Павел принес с собой несколько книг.
— Вот почитайте, Павел Дмитриевич, роман и это исследование об искусстве. Мне очень хочется знать ваше мнение об этих книгах.
— Почему именно об этих?
Он пропустил мой вопрос мимо ушей. И вместо того чтобы ответить, как-то странно посмотрел на меня и усмехнулся.
Обе книги, которые он оставил мне, — я обратил на это внимание сразу, — были изданы в разное время. На обложках и той и другой не значились имена авторов — только названия. Должно быть, оба автора пожелали остаться неизвестными.
Сначала я начал читать роман. Он назывался: «Труды и дни Василия Иванова». Название скорее говорило о любви к точности, чем об изобретательности автора. По-видимому, автор не хотел гнаться за оригинальностью, хотел быть ближе к жизни и своим несколько деловым и суховатым буднично-очерковым названием желал подчеркнуть это свое стремление смотреть на мир трезво, прозаично, а главное — обыденно.
Но как далеко от истины оказалось это мое поспешное и преждевременное суждение! Уже первые фразы захватили меня крайним своеобразием сюжета и оригинальностью стиля.
Я сделал шаг в предложенный моему воображению мир, и двери этого мира сразу же плотно закрылись. Жалел ли я об этом? Искал ли выхода из этого воображаемого мира в тот, в котором я пребывал, пока не прочел это прозаичное и обыденное название? Ничуть. Я был захвачен повествованием, завлечен. Мое «я» слилось с «я» героя книги Василия Иванова.
Кто же был этот Василий Иванов? Роман отвечал не сразу, не вдруг. Вас проводили сквозь личное и общественное бытие, сквозь жизнь, наполняя душу пространством и временем, приключениями и событиями. Вас переносили с Земли на Венеру и в окрестности Сатурна, на космические станции, вас заставляли испытать все физические и эмоциональные переживания, связанные с опасностями, скитаниями, ошибками и надеждами. Действие захватывало довольно обширное пространство. Из космоса вы попадали на Землю, и тогда вас окружали горные хребты, перед вами расступались шумящие леса, раскидывались просторные поля, или вы оказывались в тишине океана.
Повествование поражало своим эпическим масштабом. Оно уносило вас и за пределы солнечной системы, в далекие миры, а иные из них были населены высокоразумными существами.
Эти страницы романа поражали воображение и чувства. Читатель уже видел мир не глазами человека, а взглядом сверхразумного существа, жителя далекой планеты. Но эти бесстрастные главы сменялись главами, полными музыки, лиризма и тревоги. Затем на страницах возникали леса, реки, звон падающей воды, плеск, голос любимой девушки.
Прочитав роман, выйдя из этого удивительного мира причудливых образов, глубоких мыслей и чувств, охваченный волнением, я сказал:
— Да, такое глубокое и своеобразное произведение мог создать только человек, Человек с большой буквы. Оно полно истинной и земной человечности.
Потом, несколько дней спустя, я повторил эти слова на дискуссии в Академии наук, и в зале произошло движение. Председательствующий сказал мне спокойно и ласково:
— Вы ошибаетесь, роман написал не человек.
Наступила пауза. Слова председателя захватили меня врасплох. Мое сознание не в силах было проникнуть в их загадочный смысл.
— А кто же? Кто? Уж не думающая ли машина? — растерянно пробормотал я. — Не механический же робот?
Не машина! Вы правы. И не человек. А высокоразумное существо, житель далекой планеты Тиомы, поселившийся у нас.
19
Мое сознание человека двадцатого столетия долго не могло свыкнуться с этим парадоксальным фактом. Роман, то есть нечто человеческое, выражающее самую сущность человека, захватывающее и глубокопсихологическое произведение, был создан не человеком, а существом иного мира, жителем другой, далекой планеты.
В тот же день, когда я узнал, кто автор понравившегося мне романа, я узнал и о том, что он непременно хочет познакомиться и побеседовать со мной. Да, у него есть что мне сказать и о чем меня спросить. Если я не возражаю, спросили сообщившие мне это, встреча произойдет завтра, здесь же в гостинице, где я остановился, прибыв на заседание Академии наук.
Ночью я почти не сомкнул глаз. Я был необыкновенно возбужден и с тревогой ждал встречи с тиомцем. Тиомцем его называл Павел Погодин, по-видимому желая этим скромным, почти обыденным названием приобщить себя, а заодно и меня к чему-то выходящему за пределы человеческого и земного опыта.