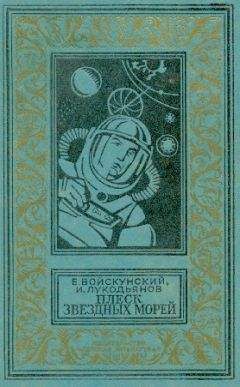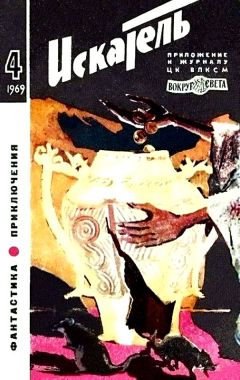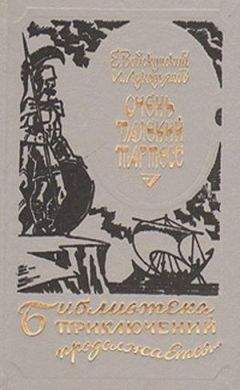Евгений Войскунский - Плеск звездных морей
— Встречались, — кротко поправил её Леон. — В Москве, в Центральном рипарте, помнишь? Я тебе ещё сказал, что улетаю на Венеру.
Ну конечно, в рипарте, подумал я: где ещё можно тебя встретить, модника этакого? Раньше я непременно сказал бы это вслух, а теперь — только подумал. Вот какой добрый я стал, никого не задираю.
— Он в школе вечно писал на меня эпиграммы, — продолжала между тем Нонна. — Кстати, совсем не остроумные…
— Признаю, — засмеялся Леон.
— А теперь, когда узнал, что мы проектируем новый корабль…
— Небывалый, — вставил Леон.
— Новый корабль, — упрямо повторила Нонна, — он вспомнил о моем существовании и принялся вызывать по видео, пока у меня не лопнуло терпение и я не ответила: «Хорошо, прилетай». Леон хочет набраться впечатлений для новой поэмы.
— Все правильно, — подтвердил Леон, — кроме одного: поэму я пока писать не собираюсь. Просто хочется посмотреть, как работают конструкторы, послушать ваши разговоры…
Борг сказал:
— Наши профессиональные разговоры будут тебе непонятны, а будничные — неинтересны. Впрочем, слушай, если хочешь.
Леон посмотрел на главного несколько обескураженно. Потом перевёл взгляд на меня, как бы ожидая поддержки. Я знал, что ему хотелось сейчас услышать: «Как? Ты называешь будничным разговор о корабле, которому предстоит уйти в глубины Галактики?» Вот что хотелось услышать Леону. Но я молчал. Глубины Галактики… Ах, да не надо громких слов. Оставим их поэтам…
Было в словах Леона нечто другое, поселившее во мне неясную тревогу.
— Ты был на Венере? — спросил я.
Я знал, что, хотя комиссия Стэффорда давно закончила работу, на Венеру устремились по собственному почину исследователи-добровольцы — биологи и экологи, психологи и парапсихологи, просто генетики, онтогенетики, эпигенетики — большинство из них придерживалось взглядов Баумгартена.
— Я провёл на Венере четыре месяца, — сказал Леон.
— Ну, и как там?
Как там мои родители, Филипп и Мария Дружинины, — вот что мне хотелось бы знать более всего. Но, конечно, не приходилось ждать ответа на этот вопрос.
— На Венере сложно, — сказал Леон. — Я разговаривал со многими примарами, и… я не очень силён в психологии, но впечатление такое: никакой враждебности, ничего такого нет. У них свои трудные проблемы, очень трудные, и земные дела их не интересуют. В этом — суть обособления примаров.
— Надо принять меры, — заявил Гинчев. — Решительные меры. Иначе эволюция их обособления приведёт к полному отрыву. Венера будет потеряна.
— Какие меры ты имеешь в виду? — спросил Леон.
— Не насильственные, разумеется. Ну, скажем, прививки. Что-то в этом роде предлагал Баумгартен.
— Примары не пойдут ни на какие прививки. Вообще там назревает недовольство. Они охотно сотрудничали с комиссией Стэффорда, но теперь, похоже, исследователи им надоели.
Можно их понять, подумал я.
Я посмотрел на Андру, наши взгляды встретились, в её глазах я прочёл беспокойство. Знает, что Венера — трудная для меня тема. Ах ты, милая… Я улыбнулся ей: мол, не надо тревожиться, мы с тобой сами по себе, а Венера — сама по себе… Но Андра не улыбнулась в ответ.
— Ходит слух, — продолжал Леон, — что кто-то из примаров вышел из жилого купола без скафандра и пробыл четверть часа в атмосфере Венеры без всякого вреда для себя. Понимаете, что это значит? Правда, проверить достоверность слуха не удалось.
— Чепуха, — сказала Нонна. — Психологическое обособление не может вызвать такие резкие сдвиги в физиологии. Они остаются людьми, а человек без скафандра задохнётся в венерианской атмосфере.
«Остаются людьми»… Что-то у меня испортилось настроение, и я уже жалел, что затеял этот разговор.
— Лучше всего, — сказал я, — оставить примаров в покое.
— Да как же так — в покое! — тут же вскинулся Гинчев. — Ты понимаешь, что говоришь, Улисс? Существует логика развития. Сегодня — равнодушие, завтра — недовольство, а послезавтра — вражда! Понимаешь ты это — вражда! Как же можем мы…
— Сделай одолжение, не кричи, — перебил я его, морщась. — У Баумгартена, что ли, научился?.. Не будет никакой вражды.
— Как же не будет! — вскричал Гинчев и вдруг умолк, глядя на меня и часто моргая. Вспомнил, должно быть, что я примар.
В наступившем молчании было слышно, как Гинчев завозил под столом ногами. Борг отхлебнул вина из своего стакана, тихонько крякнул. Андра сидела против меня, странно ссутулившись, скрестив руки и обхватив длинными пальцами свои обнажённые локти. Чем-то она в эту минуту была похожа на свою мать. Да, да, вот так же, в напряжённой позе, сидела когда-то Ронга в забитом беженцами коридоре корабля, с широко раскрытыми глазами, в которых застыл ужас.
Что было в глазах у Андры?..
Вдруг она выпрямилась, тряхнула головой и, взглянув на меня, слабо и как-то растерянно улыбнулась. Узкие кисти её загорелых рук теперь лежали на столе. Я с трудом поборол искушение взять эти беспомощные руки в свои… взять и не выпускать-никогда…
— Улисс, — услышал я бодрый низкий голос Леона. — Улисс, я обрадовался, когда узнал от Нонны, что ты здесь. Давно мы не виделись. Как поживаешь, дружище? Почему тебе никогда не придёт в голову вызвать меня по видео?
Я посмотрел на него с благодарностью. Мы не были друзьями, и мне действительно ни разу не приходило в голову вызвать его.
Почему? Почему я не вызываю Костю Сенаторова? Ведь он мне далеко не безразличен…
— Редко бываю на шарике, — ответил я. — Рейсы у меня теперь долгие.
— Рейсы долгие, а жениться ты всё-таки успел? — Леон подмигнул мне. — Поздравляю, Улисс. У тебя замечательная жена.
Снова завязался общий разговор. Теперь Леон заговорил о своеобразии венерианского интерлинга, о словечках, непонятных для землян, об особенностях версификации в стихах и песнях тамошних поэтов. Ну, это была его тема. Меня не очень волновало, что поэты Beнеры явно отходят от семантической системы и все более склоняются, как выразился Леон, к кодированию эмоций. Андра — вот кто разбирается в таких вещах, и она, конечно, тут же ввязалась в спор с Леоном.
Я начитан довольно-таки беспорядочно и не силён в поэзии. Мне нравятся философские поэмы Сергея Ребелло и космические циклы Леона Травинского. Из поэтов прошлого столетия я охотнее всего чигаю Хлебникова. Ещё в школьные годы меня поразили стихи этого поэта, не признанного в своё время и необычайно популярного в нашем веке.
Не знаю, достигнут ли уже «лад мира», но удивительно, как мог провидеть его из дальней дали этот человек. Помните его:
Лети, созвездье человечье,
Все дальше, далее в простор
И перелей земли наречья
В единый смертных разговор.
Это ведь о нашем времени. Недаром он называл себя «будетлянином». И вправду он весь был устремлён в будущее. Недавно отмечали стопятидесятилетие со дня смерти Хлебникова, и в Северную Коммуну, где умер Хлебников, слетелись толпы его почитателей. Там открыли памятник ему с надписью: «Будетлянину от благодарных потомков». Жаль, я был в тот день в рейсе у Юпитера, а то бы непременно туда поехал.