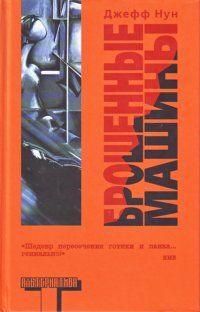Джефф Нун - Брошенные машины
— А тебя не огорчает, как ты живешь? — спросил Спендер.
— Что?
Павлин никак не мог сосредоточиться. Голова как будто наполнилась чернотой, перед глазами все поплыло. Его цель превратилась в зыбкий силуэт, смазанный по краям.
— То есть если это вообще можно назвать жизнью?
Павлин пытался удержать пистолет, но теперь он не знал, куда целиться. Ему казалось, что они там не одни. Что там был кто-то еще.
— Блин, — сказала Тапело. — Помехи пошли, да? Шум? Причем очень неслабый.
Павлин как будто ее и не слышал.
— Ну, чего? — спросил Спендер. — Теперь ты все знаешь. Будешь меня убивать?
— Ты так торопишься умереть? — спросил Павлин.
— Мне уже все равно. Я заразился. — Спендер указал на закрытые зеркала, но Павлин пока что не мог сопоставить одно с другим. Он был смущен и растерян, и слова о болезни заставили его задуматься о своем собственном состоянии.
— А ты тоже, смотрю, подхватил эту заразу? — спросил Спендер.
— Да, похоже на то.
Свободной рукой Павлин взял со стола фотографию. Посмотрел на нее. И завис.
— Что-то не так, дружище?
— Лицо…
— Ничему нельзя доверять. Вот что самое поганое. Все теряется, и ничего уже не восстановишь и не сохранишь. Нет ничего постоянного, закрепленного. А что будет дальше? К чему мы придем? И куда нам идти?
Павлин оторвался от фотографии. Он посмотрел на Спендера, а потом повернулся к зеркалу. Полотенце упало на пол, и зеркало было открыто. Павлин увидел свое отражение. У него в голове вдруг возник странный шум, и в этом шуме он различил слова:
— Ну что, будешь меня убивать?
Это был голос его мишени.
Он повернулся к своей мишени.
— Знаешь, дружище, сдается мне, что один из нас точно не выйдет отсюда живым.
Его мишень поднялась из-за стола. Что-то было неправильно. Павлин это чувствовал. Он смотрел на свою мишень, а в голове засела нелепая мысль, что он смотрит на себя самого, что это он сам стоит там, перед ним, и что теперь он тоже стал мишенью. У Павлина в руке был пистолет. И у того — другого — тоже был пистолет.
— Да, впечатляющее представление.
Кто это сказал? Два пистолета целились друг в друга сквозь рябящую пелену зеркального стекла. Шум проник сквозь стекло, и один из пистолетов выстрелил. Или, может быть, выстрелили оба. Тот, кто стрелял, попал в цель. Там была кровь. Много крови. Она разбрызгалась по столу и по стульям, затянутым целлофановой пленкой. Тот, кто стрелял, ощутил внутри странную пустоту. Как это бывает, когда умирают все чувства.
И что теперь?
Тот, кто стрелял, взял со стола паспорт. Открыл. Внутри была вклеена фотография. Его собственная фотография. Там было имя. Джон Павлин. Да, именно так. Тот, кто стрелял, убрал паспорт в карман.
— Погоди, — сказала Тапело. — Что с тобой?
Тот, кто стрелял, взял со стола шляпу. Из коричневой кожи, с плоской тульей и загнутыми полями. Он надел ее на голову. Точно его размер. Он забрал и фотографию. На фотографии тоже был он. Тот, кто стрелял, вышел из дома-прицепа. На улице было уже темно. На небе светила луна. Полумесяц. Луна как будто мерцала.
— Что происходит? — спросила Тапело.
Те двое парней теперь стояли у прицепа. Один из них кивнул тому, кто стрелял. Там были еще какие-то люди. Они все смотрели на него. На его правую руку.
— Павлин! — сказала Тапело.
В правой руке он держал пистолет. Тот, кто стрелял, вышел за территорию лагеря, и теперь в темном и тусклом гостиничном номере стало тихо. Я не знала, что говорить — что тут можно сказать. Тапело сидела, склонив голову.
И больше Павлин не сказал ни слова.
* * *Желтые цветы на обоях, их шелковистые черные сердцевинки, зеленые стебли, обвивающие друг друга, побеги и листья. Мои пальцы, сдвигающиеся по сплетению стеблей. Куда ведет каждый стебель, откуда он начинается, от какого корня — к какому цветку? Пальцы следуют за изгибами стеблей — или пытаются следовать — и теряются в нагромождении деталей. Возможностей и невозможностей.
— Может, пойдем погуляем? — предложила Тапело.
— Нет.
— Да ладно тебе, Павлин…
— Нет. Мы будем ждать здесь.
Я отступила на шаг и пошла вдоль стены. Я искала то место, где узор начнет повторяться: где появится то же самое расположение цветов, стеблей и листьев — снова и снова. Но узор не повторялся. Во всяком случае, я не заметила, чтобы он повторился. Даже там, где начиналась новая полоска обоев.
— Тогда я одна пойду.
— Только попробуй, — сказал Павлин.
— Сама.
— Только попробуй уйти, и сюда ты уже не вернешься.
— Что?
— Сюда можешь не возвращаться.
Под сырой, отслаивающейся бумагой копошились какие-то насекомые. Крохотные неровности подобиями; скрытый пульс этой комнаты. Маленькие обитатели темноты. Наверное, они живут в трещинах в стенах. Они живут в штукатурке. Питаются крахмалом и клеем. И когда-нибудь они съедят всю комнату. Она раскрошится, умрет. Обрушится. Исчезнет. Я не могла оторвать взгляд от стены, от цветов, от стеблей и листьев, от невидимых насекомых, цвета закружились красочным вихрем, и мне вдруг стало плохо. Мне показалось, что я сейчас грохнусь в обморок.
Меня уносило куда-то.
И было больно.
Я отступила, еще дальше, прочь, и стена двинулась следом за мной.
* * *Наш номер располагался на самом верхнем этаже, в дальнем конце коридора. Я стояла, смотрела в окно. На окне была тонкая сетчатая занавеска, и сквозь нее проглядывала луна, тусклая и одинокая.
— А сколько до нас идет свет Луны? — Я обернулась к Павлину с Тапело. — Сколько минут?
Тапело, я думаю, должна была это знать, я потому и спросила. Но мне никто не ответил. Павлин был занят: он методично напивался. Тапело тоже была занята — сидела перед телевизором, прижав руки к экрану. Я не знала, что еще сказать.
Я посмотрела на стену, на зеркало, повернутое к стене.
— Блин, где она? Где Хендерсон?
Мне никто не ответил. Павлин сидел за пианино и сворачивал папиросу с травой на закрытой крышке.
— Сколько времени?
В ответ Павлин улыбнулся. Достал зажигалку, раскурил свой косяк, залпом допил виски.
— Зачем ты так много пьешь?
Он сразу замкнулся, и его взгляд стал холодным. От этого холода мне сделалось не по себе.
— Тапело, — сказала я. — Сколько времени…
Она как будто меня и не слышала. Она сидела перед телевизором, на полу, так что ее лицо было всего в паре дюймов от светящегося экрана. Как будто она не боялась обжечь глаза. Призрачный голубой отсвет подрагивал у нее на лице.
Павлин что-то такое сделал с проводами, чтобы телевизор работал, а на счетчике это не отражалось. Ну, чтобы потом не платить. Но телевизор работал странно: каналы переключались сами собой. Я сама его не смотрела. Не могла смотреть — мне сразу же становилось плохо. Зато Тапело смотрела не отрываясь. И на нее это никак не действовало. Я снова задумалась: а сколько ей лет, этой девочке. Теперь она с нами. Она сама так захотела. И ведь добилась, чего хотела. Хотя я сомневаюсь, что при всем своем рвении она понимает истинный смысл того, что мы делаем.