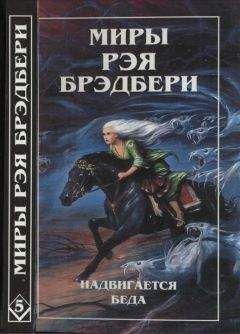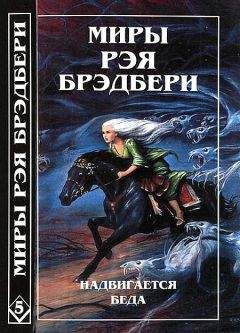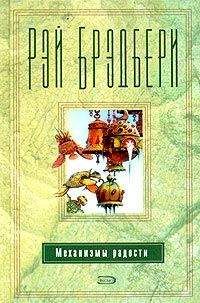Рэй Брэдбери - Сборник 5 МЕХАНИЗМЫ РАДОСТИ
– Вам не будет скучно, доктор, если я расскажу о нашем медовом месяце? – застенчиво осведомилась она.
– Нет, – мгновенно отозвался доктор Джордж. Затем, устыдившись своего неприкрытого и отнюдь не врачебного любопытства, добавил менее горячим тоном: – Пожалуйста, продолжайте.
– Наш медовый месяц… Его нельзя назвать обычным.
Брови доктора слегка подпрыгнули вверх. Он невольно перевел взгляд с лежащей на кушетке Эммы Флит на дверь в приемную, где сидел крошечный сколок Эдмунда Хиллари, славного покорителя Эвереста.
– О, вы представить себе не можете, с каким страстным нетерпением Уилли увлек меня в свой будто кукольный домик, состоявший из одной небольшой комнаты с крохотным оконцем. Теперь эта комнатка стала и моей. Уилли – всегда спокойный и добрый, всегда деликатный, всегда истинный джентльмен. И когда мы оказались в его домике, он себе не изменил. Он самым вежливым образом попросил меня дать ему мою блузку. Я ее сняла и протянула в его маленькие изящные ручки. Тогда он попросил юбку, и я подчинилась. И так он перечислял предметы моей одежды, пока я не оказалась… Не знаю, можно ли покраснеть с головы до ног, но мне тогда показалось, что я покраснела от макушки до пят. Я была в центре комнаты, как огромный костер, и полыхала, то бледнея всем телом, то снова краснея, то снова бледнея.
– Боже! – вскричал Уилли. – Словно распустился огромный бутон самой прекрасной на свете камелии!
И при этих его словах я снова зарумянилась от стыда от макушки до пят и новые волны огня и холода покатились у меня по телу, но было чрезвычайно отрадно чувствовать, как моя кожа вызывает в Уилли упоение восторга. И что, по-вашему, Уилли сделал потом? Догадайтесь!
– Я не смею, – сказал доктор, и вдруг сам зарделся.
– Он обошел вокруг меня – раз, другой, третий.
– То есть он кружил вокруг вас?
– Да, словно скульптор вокруг глыбы белоснежного мрамора, с которой ему предстоит работать. Он так и назвал меня – глыбой гранита или мрамора, из которой можно создать произведение искусства невиданной красоты. И он все кружил и кружил вокруг меня, торжествующе ахая и охая, потирая руки, сверкая глазками и довольно покачивая головой, не в силах нарадоваться на свое счастье. Казалось, он прикидывал, с какого места начать. Откуда, откуда же начать?
И вот он наконец обрел: речь и спросил меня:
– Эмма, знаешь ли ты, почему я столько лет ездил с лилипутами и, в дополнение к главной работе, – куплетам и танцам, – занимался тем, что взвешивал людей на ярмарках? Я отвечу тебе. Потому что всю свою взрослую жизнь я искал кого-нибудь вроде тебя. Вечер за вечером, лето за летом я видел перед собой, как прогибается сиденье моих весов под весом желающих взвеситься. Но я был капризен. Я ждал подлинной удачи. И дождался. Теперь у меня есть ты, а вместе с тобой – и возможность выразить мой гений. Ты – мой холст, ты – голая белая стена собора, которую должно украсить роскошной фреской!
Он захлебнулся от чувств и молча взирал на меня блещущими глазами.
– Эмма, – сказал он наконец, нежнейшим голосом, – могу ли я делать с тобой все, что мне захочется? Могу ли я полностью располагать тобой?
– Ах, Уилли, – вскричала я. – Делай со мной все, что хочешь, Уилли! Я твоя!
Эмма Флит замолчала.
Доктор давным-давно сдвинулся на самый край своего кресла и весь подался вперед. Теперь он быстро выдохнул:
– Ну-ну, и дальше?
– А дальше он вынул из шкафчика все свои коробочки, бутылочки с чернилами, трафареты и сверкающие серебряные татуировочные иглы.
– Тату… Татуировочные иглы?
Доктор Джордж ошарашенно отъехал в глубину своего кресла:
– Он вас… татуировал?
– Да, он меня татуировал.
– Выходит, он мастер татуировки? Художник по телу?
– Да-да, вы употребили правильное слово: художник! Но так Уилли предначертано талантом, что холстом ему служит человеческое тело.
– Стало быть, вы, – медленно произнес доктор, – стали тем холстом, который он искал с юности?
– Да, я стала тем холстом, который он искал всю свою жизнь…
Миссис Флит сделала паузу, дабы психоаналитик как следует осознал суть произнесенного. И тот действительно хотя и не сразу, не без заметного усилия, но проникся.
Эмма продолжила свой рассказ не раньше чем убедилась по игре чувств на лице доктора, что сказанное ею достигло самого дна его души и вызвало там громкий всплеск эмоций.
– И с тех пор началась упоительная жизнь! Я души не чаяла в Уилли, а Уилли души не чаял во мне, и мы оба любили то, что было выше нас и чем мы занимались вместе. Мы были заняты созданием самой грандиозной картины в мире – такой, что свет еще не видел! «Мы достигнем полнейшего совершенства!» – восклицал Уилли. «Мы достигнем полнейшего совершенства!» – вторила я ему.
Ах, каким счастливым было то время! Мы провели за работой десять тысяч беспечальных светлых часов. Вы представить себе не можете, до чего я была горда своей ролью неоглядного берега, о который плещутся волны всех красок таланта Уилли Флита!
Год мы трудились над моими руками – сперва над правой, затем над левой. Полгода ушло на мою правую ногу и целых восемь месяцев – на левую. И это была только подготовка к грядущему буйству деталей и красок: мы начали кропотливый труд над спиной – от затылка к лопаткам и ниже, ниже, пока не сомкнули края картины на бедрах. И тогда мы перешли на переднюю часть тела: ярмарочные карусели и взрывы шутих соседствовали там с обнаженными красавицами Тициана, с умиротворяющими пейзажами Джорджоне и миниатюрными копиями картин великого Эль Греко.
Видит небо, не было и не будет на свете любви, подобной нашей! Любви двух существ, в едином порыве посвятивших себя одному делу – подарить миру совершенное произведение искусства. Мы и минуты не могли провести друг без друга, купались в общении друг с другом – и я все толстела и толстела, и у Уилли это ничего не вызывало, кроме искренней и буйной радости. С каждым лишним фунтом увеличивалась площадь холста, который предстояло заполнить искрометной фантазии художника.
Мы упивались этим временем, ибо смутно чувствовали, что с окончанием Шедевра что-то уйдет из нашей жизни – карнавальные огни нескончаемого праздника поневоле померкнут. Правда, завершив титанический труд, Уилли получит возможность бросить труппу лилипутов и больше не выступать с куплетами в ярмарочных балаганах, ибо мы сможем выставлять меня в Музее Искусства в Чикаго, в лучших собраниях Вашингтона и Нью-Йорка, в Лувре и лондонской галерее Тейт. Всю оставшуюся жизнь мы будем путешествовать по свету и ни о чем не печалиться!
И так мы трудились, год за годом. Окружающий мир был нам не нужен, ибо нам хватало друг друга. Днем мы зарабатывали на хлеб – каждый своей прежней работой. Зато по вечерам начиналось пиршество истинного труда – до самой полуночи. Сегодня Уилли корпит над моей лодыжкой, завтра над локтем, а послезавтра оживляет белые пустыни крестца. Уилли редко позволял мне любоваться его трудом. Он не любил, когда во время работы ему заглядывают через плечо. Хотя мне для этого порой пришлось бы заглядывать через свое плечо. Иногда мне приходилось проводить месяцы в мучительном ожидании, прежде чем он разрешал оценить новую работу, кропотливо созданную дюйм за дюймом на протяжении бесконечной череды вечеров, когда я утопала в волнах его вдохновения, покуда он расцвечивал меня всеми цветами радуги.