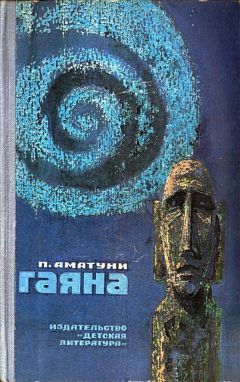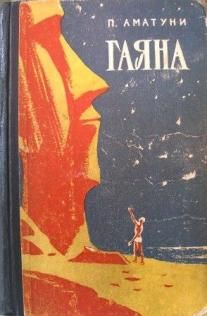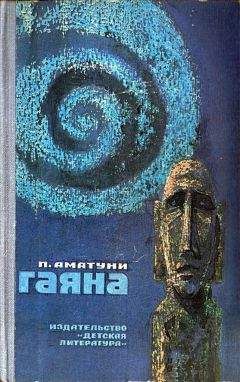Петроний Аматуни - Гаяна
Правильно ли поступил он, дав возможность Стасю унести сундучок? Здесь дело не связано с диверсией, это ясно. Значит, можно располагать временем. А если партнер Стася здесь, в самолете?! Рязанов невольно повернул голову в сторону единственного человека, кого можно было заподозрить. Пассажир с бородкой побледнел и положил руку на сердце: ему становилось дурно то ли от небольшой болтанки, то ли от высоты.
— Ну почему они летят так высоко?! — точно отвечая на мысли Рязанова, воскликнул он. — Неужели нельзя пониже?
Он быстро поднялся, открыл дверь пилотской кабины и перешагнул через порог. Не более секунды раздумывал Рязанов и решительно устремился вслед за подозрительным пассажиром, но этой секунды было достаточно: дверь с надписью «Командир корабля» оказалась запертой изнутри!
Алексей резко повернулся и увидел, как из руки Стася выпал пистолет, выбитый тем, кто сидел позади него…
4
Шелест задумчиво смотрел на приборы. Серафим в микрофон докладывал земле обстановку полета. Налив в стакан воды, он поднес его ко рту, чтобы напиться, но, увидев перед собой дуло пистолета и лицо с бородкой и усами, онемел от неожиданности. Секунду спустя он почти машинально плеснул в незнакомца воду и спрятался за рацию. Выстрела он не услышал, а почувствовал боль в правой руке. Пальцы похолодели и выпустили стакан.
В следующее мгновение он рванулся вперед и здоровой рукой впился в горло налетчика. На этот раз были отчетливо слышны два выстрела, и диверсант, красный от натуги, склонился под тяжестью обмякшего тела бортрадиста: на голову «пассажира» опустился твердый кулак командира корабля. На помощь Шелесту бросился и второй пилот.
За штурвалами самолета теперь не было никого, и только автопилот сохранял равновесие полета.
Петушок вырвал пистолет из руки противника и отбросил его в сторону.
Вся эта стремительная сцена длилась считанные секунды, и никто из летчиков не успел как следует осмыслить, что, собственно, происходит. Шелест сзади сжал противника, но диверсант, воспользовавшись тем, что Андрей обхватил его выше локтей, извлек из кармана второй пистолет и протиснул его за спину.
Андрей почувствовал, как в живот ему уперся твердый ствол. Спина его будто покрылась морозным инеем. Он всегда был далек от мысли о смерти и, во всяком случае, никогда не думал, что она может прийти к нему в такой обстановке, неожиданно, нелепо и…
Шелест нажал подбородком на плечо диверсанта с такой силой, что парализовал ему руку. Налетчик вскрикнул от боли и выпустил пистолет.
Тут же Петушок отворил дверь, и кто-то кинулся к дерущимся. «Конец!» — подумал Андрей; от нервного возбуждения и усталости у него закружилась голова. Он, точно в тумане, видел, как два толстяка, оказавшись вдруг проворными и энергичными, выхватили из его объятий диверсанта, повалили на пол и скрутили ему руки. Все было кончено.
— Садись на место, командир! — крикнул Шелесту один из толстяков. — Следи за машиной, а эти прохвосты уже обезврежены.
В открытую дверь было видно, как Рязанов обыскивал лежащего на полу в проходе между кресел Стася. Тем временем толстяки деловито надевали наручники на Сардова, с которого в драке слетели наклеенные борода и усы.
Петушок наклонился над Чернышом.
— Серафим… Сима… — окликнул он. — Ты слышишь меня? Все в порядке, Сима! Тебе очень больно?
Черныш посмотрел на него долгим взглядом, попытался приподняться, желая что-то сказать, но вдруг упал на руки Венева. Петушок прижался к груди Черныша. Андрей бережно положил под голову радиста чемодан и, надев наушники, стад вызывать Краснодарский аэропорт.
— Я «45–16», я «45–16», — передал он. — Возвращаюсь к вам… Приготовьте «скорую помощь» и организуйте встречу… На борту обезоруженные диверсанты.
— Вас поняли, — ответили из Краснодара. — Как самочувствие командира?
— Нормально.
— Разрешаем садиться у нас, подходите визуально.
Андрей сел за штурвал и выключил автопилот. Петушок с трудом оторвался от своего друга и занял место рядом с командиром.
5
Серафима оперировали в краевой больнице.
— Будет жить, — сказал хирург.
— А летать? — не утерпел обрадованный Шелест.
— Возможно, и летать будет.
В коридоре к Шелесту подбежал Венев:
— Ну что, командир?
— Все хорошо, Петушок, — ответил Шелест и ласково обнял его за плечи. — Будет летать наш Серафим…
У кабинета главного врача их встретил Рязанов. Он только что взбежал по лестнице и запыхался.
— Как ваш радист? — спросил он.
— Будет жить.
— Эх, Андрей, Андрей, — сокрушенно покачал головой Рязанов, — ведь это я во всем виноват: опоздал, на одно мгновение опоздал! Но я не предполагал, что они решатся на такое… Век живи, век учись! Давно мы с тобой не летали вместе, и вот видишь, как пришлось… И не на войне, а впору надевать фронтовые погоны!..
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
На древней скале
1
Когда Курц вошел в кабинет и замер в нескольких шагах от стола, Дорт, едва сдерживая бешенство, почти шепотом произнес:
— Немедленно убрать Гарри и Пирса! Я приказал вам следить за всеми, а оказалось, что все следят за нами. Дубина! Самое величайшее для меня наслаждение сейчас — это втиснуть вас в консервную банку для крабов! — кричал он, стуча кулаками о стол. — Вчера я узнал, что Монти Пирс — шпион фирмы «Келли и сыновья», а Гарри — его сообщник… Сейчас же разделайтесь с Гарри, а в отношении Пирса, смотрите, чтобы на заводе не было разговоров… Ступайте!
Курц вышел от Дорта перепуганный до смерти. За последнее время это был четвертый по счету «взрыв». Черт бы побрал этого богача! Так издеваться над ним, настоящим арийцем! И, что самое обидное, Курц должен все это безропотно выслушивать и трястись от страха за свою голову.
Не обремененный понятиями о морали, Курц был воистину исправным служакой в Освенциме. Здесь, на острове, опыт полученный Курцем в концлагере, очень пригодился, и Бергофф, а особенно Дорт, сумели оценить это. Гестаповский режим, введенный Курцем на острове, отвечал их требованиям. Правда, в Освенциме было проще. Там все, кто находился в ведении Курца, назывались пленными или каким-нибудь иным подходящим словом. Здесь же, вызывая виновника на допрос, приходилось именовать его даже «мистер»! В Освенциме были печи, и людей в них сжигали. На острове над людьми производят какие-то научные опыты, по мнению Курца, припахивающие тонкой «философией». Это ему не нравилось. Ученых он терпел как необходимый придаток всякого «настоящего» предприятия (в Освенциме тоже были свои «ученые»), но верить им не верил.