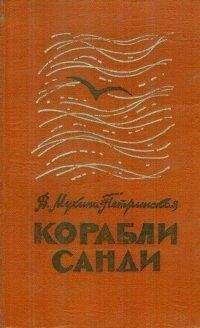Валентина Мухина-Петринская - Планета Харис
Окончательно проснувшись, она села, по-детски протерла кулачками глаза и с удивлением огляделась. Огромный шестиугольный зал, торжественно пустынный, как храм. Без окон, но светло, будто свет просачивался сквозь стены.
Рядом стоял и взволнованно смотрел на нее высокий, молодой, худощавый человек с добрым и красивым лицом и знакомой черточкой между носом и губами, придававшей лицу неповторимое выражение нежности и мужественности одновременно.
— Только не пугайтесь, Рената, — сказал он ласково, — я вам все объясню.
— Как я здесь очутилась? — растерянно спросила девушка, мысленно преисполняясь доверия и приязни к этому несомненно доброму человеку. — А где это я? Ведь я шла…
— Где вы шли? — живо подхватил Кирилл, радуясь ей и боясь за нее.
— Сегодня на рассвете я сошла с поезда и направилась пешком в Рождественское… Мне не впервой пешком, хотя бы и с вещами. Но как же я могла очутиться здесь… и где это?
— Как вы себя чувствуете? — озабоченно спросил Кирилл и, взяв ее за руку уверенным и привычным жестом врача, пощупал пульс. Он был хорошего наполнения. И лишь чуть учащенным.
— Хорошо.
— Гм! — Кирилл не смог скрыть своего удивления.
— А разве я должна себя чувствовать плохо? Что со мной случилось? Кто вы такой?
— Я Кирилл Мальшет, врач-космонавт.
— Врач-космонавт… Никогда не слышала…
— Вы знаете, какой на Земле год?
— 1932 год, а что? Я не понимаю…
— Если вы хорошо себя чувствуете, я вам все объясню. Но сначала вы должны позавтракать. Помочь вам встать?
— Зачем же… Я сама. А вы откуда?
— Я тоже из Рождественского. Николая Симонова знаете?
— Николая? Конечно, это мой друг.
— Я его родственник.
…До чего разоспался, никак не стряхнет с себя сон. Что за гул, протяжный, низкий, как орган. Тайга расшумелась перед непогодой? Или близко пороги? Ах, да ведь он же на Луне!
…Иногда мать брала его с собой в лес. Чисто, светло и тихо было в хвойном лесу. Опавшая порыжелая хвоя пружинила под ногами. Солнце, словно дождь, проливалось сквозь темно-зеленые кроны. Они стояли перед старой елью — очень старой, — и мать с сочувствием и жалостью гладила ее по коре.
— Лет сто ей, поди? — небрежно заметил Харитон.
Он не понимал жалости матери к дереву. Раз старая, надо срубить, чего ей занимать зря место.
— Ей около пятисот лет, — сказала Таисия Константиновна задумчиво. — До ста лет кора у ели бронзовая, гладкая, словно кожа у юноши, хвоя ярко-зеленая, сочная. И вся она, молодая ель, полна жизни и радости, и ветер треплет ее крону, как развевающиеся волосы. После ста двадцати пяти лет на коре появляются первые морщины и серый налет… К ста пятидесяти годам кора делается чешуйчатой, крона редеет, появляются мертвые ветви. К ста восьмидесяти годам трещины становятся глубокими бороздами, чешуя крепнет, кора мертвенно-серая. А к двумстам годам кора как пепел. И хвоя как пепел на искривленных сучьях — утолщенных, как опухшие суставы у ревматика. Разве тебе не жаль ее? Иди сюда, Тони, смотри: какая она гордая, эта ель, какая величавая в своей глубокой старости. И она ведь радуется весне, солнцу, дождю, ветру и тому, что из земли по ней поднимаются холодные, горьковато-терпкие соки. Ель, наверное, думает, что старость — это просто болезнь и она еще пройдет.
— Разве дерево может думать? — буркнул сердито Харитон. Ему уже было двенадцать лет, он не маленький, чтоб слушать сказки.
— Какая ты выдумщица, мама!
Мать погладила его мальчишеские вихры и вздохнула.
— Почему ты такой рассудительный, сынок?…
Почему он вечно вспоминает этот эпизод? И с какой стати мать всегда смотрела на него с жалостью, как на убогого? Школа гордилась им — отличник, победитель всех математических олимпиад, учителя предсказывали ему большое будущее. А мать считала его обойденным судьбою. Воображение, эмоции — вот что она ценила превыше всего.
А как она искренне удивилась, когда он решил стать космонавтом. Как будто космонавт — это поэт или мечтатель (в чем — она так считала — ему отказано), а не человек действия. Математика, логика, кибернетика — вот что такое космонавтика, а не воображение и эмоции. И не более в нем тайн, чем во всякой точной науке, и все можно перевести на язык формул.
Сна как не бывало. Харитон открыл глаза и, морщась от головной боли, сел. Какого черта над ним стоит Кирилл и смотрит на него, спящего?
— Тебе чего, Кирилл? — спросил он неприязненно. И оглянулся вокруг. На широком тяжелом лице его отразилось недоумение.
— Черт побери, если я что-нибудь понимаю…
— Поймешь. Как ты себя чувствуешь?
— Как с перепоя. Башка разламывается. Где это мы?
— На планете Харис.
— Все шуточки… У американцев, что ли? Что со мной стряслось? Авария? Я ничего такого не помню…
— Можно назвать и аварией.
— Может, ты мне объяснишь подробнее?
— Непременно. Хоть сейчас…
… Уилки видел очень мучительный сон, будто он прощался с Джен навсегда. Он лихорадочно целовал ее губы, щеки, волосы, руки. Его трясло от тяжелых мужских рыданий.
— Как же я буду без тебя, Джен? — твердил он. — А ты?
— Но ведь ты будешь со мной всю жизнь, Уилки. Когда я умру, ты закроешь мне глаза, только ты.
Но Уилки Уолт знал, что он никогда не увидит жену и детей. Ни жены, ни детей.
— Как же я буду без вас? — твердил он в отчаянии.
Он так стонал и метался, что Кирилл стал его будить, не дожидаясь, когда тот проснется сам.
Уилки узнал Кирилла и с облегчением вздохнул. Лицо его было мокро от слез.
Просыпаясь по утрам он вспоминает: Вика! Первая мысль — и ничего не поделаешь. Когда-нибудь пройдет, может быть. Когда уже будет своя семья… Жена, дети.
Если Вика… полюбит его. Он никогда не женился бы даже на Вике без ответной большой любви.
Яша открыл глаза, Кирилл крепко обнял его.
— Яшка, дружище! Дорогой мой! Я думал, уж не увижу тебя больше! Ох, Яшка, попали мы в переплет!
…Вот и все, что я знаю сам, — закончил Кирилл свой рассказ.
— Просто невероятно, — мрачно проговорил Харитон, — никогда бы не поверил!
— Значит, ни жены, ни детей… никогда… — уронил Уилки. Кирилл протянул ему папиросы. Они сидели в кают-компании дома — большая, бревенчатая комната, и пятеро людей с Земли за круглым столом.
Яша был бледен, но уже овладел собой.
— Если решил стать космонавтом, надо быть готовым ко всему, — стоически заметил он.
Рената обвела всех потемневшим взглядом. Зрачки ее расширились, губы пересохли. Она закинула упавшую на лоб прядь волос — рука ее дрожала.
— Какие страшные существа! — протяжно выговорила она. — Лишить себя. Убить душу живую. Тысячелетиями убивать поэзию! Вы знаете, я поняла, почему они это метут. Когда они были маленькие, им не рассказывали сказок, не пели песен. У них даже музыки нет! И они — не знают любви. Просто размножение, когда наступает для этого время. Как страшно!