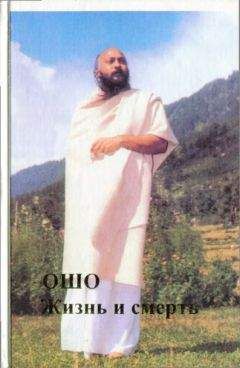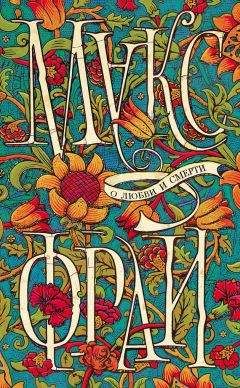Аркадий Стругацкий - Том 7. 1973-1978
— Обед готовите? — произнес он и, не дожидаясь ответа, поспешно добавил: — Ну что ж, не буду вам мешать, пойду... — Он двинулся было обратно к двери, но остановился. — Да, я совсем забыл... То есть не забыл в общем-то, а просто не знаю... Филипп Палыч... Какая у него квартира?
Я сказал.
— Ага, ага... А то он, понимаете ли, позвонил мне, а я... как-то, знаете ли, забыл... за разговором...
Он еще попятился и открыл дверь.
— Понятно, понятно, — сказал я. — А где же ваш мальчик?
— А у меня все кончилось! — радостно выкрикнул он, шагнул через порог и...»
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
20. «...подвигнуть меня на генеральную уборку этого свинарника. Я еле отбился. Договорились, что я сяду заканчивать работу, а Ирка, раз уже ей совсем нечего делать, раз уже ей, понимаешь, так неймется, раз уж она совсем не в состоянии полежать в ванночке с последним номером «Иностранной литературы», — пусть разберет белье и займется Бобкиной комнатой. А я беру на себя большую комнату, но не сегодня, а завтра. Морген, морген, нур нихт хойте. Но уж до блеска, чтобы ни одной пылинки.
Я расположился за своим столом, и некоторое время все было тихо и мирно. Я работал, и работал с удовольствием, но с каким-то непривычным удовольствием. Никогда раньше я ничего подобного не испытывал. Я ощущал странное угрюмое удовлетворение, я гордился собой и уважал себя. Мне казалось, что так должен чувствовать себя солдат, оставшийся с пулеметом, чтобы прикрывать отступление товарищей: он один, он знает, что останется здесь навсегда, что никогда ничего не увидит больше, кроме грязного поля, перебегающих фигурок в чужих мундирах и низкого унылого неба, и знает также, что это правильно, что иначе нельзя, и гордится этим. И некий сторож у меня в мозгу, пока я работал, внимательно и чутко прослушивал и просматривал все вокруг, помнил, что ничего не кончилось, все продолжается и что тут же под рукой, в ящике стола, лежит устрашающий молоток с топориком и шипастым набалдашником. И в какой-то момент этот сторож заставил меня поднять голову, потому что в комнате что-то произошло.
Собственно, ничего особенного не произошло. Перед столом стояла Ирка и молча смотрела на меня. И в то же время, несомненно, что-то произошло, что-то совсем уж неожиданное и дикое, потому что глаза у Ирки были квадратные, а губы припухли. Я не успел слова сказать, как Ирка бросила передо мной, прямо на мои бумаги, какую-то розовую тряпку, и я машинально взял эту тряпку и увидел, что это лифчик.
— Что это такое? — спросил я, совершенно обалдев, глядя то на Ирку, то на лифчик.
— Это лифчик, — чужим голосом произнесла Ирка и, повернувшись ко мне спиной, ушла на кухню.
Холодея от ужасных предчувствий, я вертел в руках розовую кружевную тряпку и ничего не понимал. Что за черт? При чем здесь лифчик? И вдруг я вспомнил обезумевших женщин, навалившихся на Захара. Мне стало страшно за Ирку. Я отшвырнул лифчик, вскочил и бросился на кухню.
Ирка сидела на табуретке, опершись локтями на стол и обхватив голову руками. Между пальцами правой руки у нее дымилась сигарета.
— Не прикасайся ко мне, — произнесла она спокойно и страшно.
— Ирка! — жалобно сказал я. — Иришка! Тебе плохо?
— Животное... — непонятно сказала она, оторвала руку от волос и поднесла к губам дрожащую сигарету. Я увидел, что она плачет.
...«Скорую помощь»? Не поможет, не поможет, при чем здесь «скорая помощь»... Валерьянки? Брому? Господи, лицо-то у нее какое... Я схватил стакан и налил воды из-под крана.
— Теперь все понятно... — сказала Ирка, судорожно затягиваясь и отстраняя локтем стакан. — И телеграмма эта понятна, и все... Докатились... Кто она?
Я сел и отхлебнул из стакана.
— Кто? — тупо спросил я.
На секунду мне показалось, что она хочет меня ударить.
— Это надо же, какая благородная скотина, — проговорила она с отвращением. — Не захотел, значит, осквернять супружеское ложе... Ах, как благородно... У сына в комнате развлекался...
Я допил воду и попытался поставить стакан, но рука меня не слушалась. Врача! — металось у меня в голове. Ирка моя, маленькая, врача!
— Ладно, — сказала Ирка. Она больше не смотрела на меня. Она смотрела в окно и курила, поминутно затягиваясь. — Ладно, не будем. Ты сам всегда говорил, что любовь — это договор. У тебя всегда это очень красиво получалось: любовь, честность, дружба... Только уж могли бы проследить, чтобы лифчики за собой не забывали... Может быть, там еще и трусики найдутся, если поискать?
У меня словно шаровая молния лопнула в голове. Я сразу все понял.
— Ирка! — сказал я. — Господи, как ты меня напугала...
Конечно, это было совсем не то, что она ожидала услышать, потому что она вдруг повернула ко мне лицо, бледное милое заплаканное лицо, и посмотрела на меня с таким ожиданием, с такой надеждой, что я сам чуть не разревелся. Она хотела только одного: чтобы все сейчас же разъяснилось, чтобы все это оказалось чепухой, ошибкой, нелепым совпадением.
И это был последний камушек. Я больше уже не мог. Я больше не захотел держать это при себе. И я обрушил на нее всю лавину ужаса и сумасшествия последних двух дней.
Не знаю, наверное, вначале мой рассказ звучал как анекдот. Скорее всего, так оно и было, но я говорил и говорил, ни на что не обращая внимания, не давая ей возможности вставить язвительное замечание, кое-как, без всякого порядка, плюнув на хронологию, и я видел, как выражение недоверия и надежды на ее лице сменилось сначала изумлением, затем беспокойством, затем страхом и, наконец, жалостью...
Мы уже сидели в большой комнате перед распахнутым окном — она в кресле, а я на ковре рядом, прижавшись щекой к ее колену, — и тут оказалось, что за окном — гроза, фиолетовая туча развалилась над крышами, хлещет ливень, и свирепые молнии ввинчиваются в темя двенадцатиэтажника, уходя в него без остатка. Крупные холодные брызги шлепались в подоконник, залетали в комнату, порывы ветра вздували желтые шторы, а мы сидели неподвижно, и она тихонько гладила меня по волосам. А я испытывал огромное облегчение. Выговорился. Избавился от половины тяжести. И теперь отдыхал, прижав лицо к ее гладкому загорелому колену. Гром грохотал почти непрерывно, и разговаривать было трудно, да, в общем-то, мне и не хотелось больше разговаривать.
Потом она сказала:
— Димка. Ты только не должен на меня оборачиваться. Ты должен так решать, как будто меня нет. Потому что я все равно буду с тобой всегда. Что бы ты ни решил.
Я крепче прижался к ней. Собственно, я знал, что она так скажет, и толку от этих ее слов, собственно, никакого не было, но все равно я был ей благодарен.