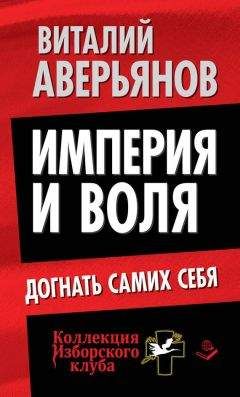Стивен Кинг - Противостояние. Том II
Он как-то вымученно рассмеялся.
— Ладно, нам пора спать. Завтра будет трудный день.
— Да, — кивнула она, подумав, что из всего сказанного ею он не понял ни одного слова. И неожиданно она расплакалась.
— Эй, — сказал он. — Эй! — Он попытался обнять ее.
— Не надо! — Она скинула его руку. — Не нужно этого делать, ты и так получаешь от меня то, что хочешь!
В нем осталось еще достаточно прежнего Ларри, чтобы подумать, не донесся ли ее голос до лагеря.
— Люси, я никогда не заставлял тебя и не выкручивал тебе руки, — угрюмо сказал он.
— Ох, ну какой же ты тупица! — крикнула она и пнула его в ногу. — Почему мужики такие тупицы, а, Ларри? Ты видишь только белое или черное. Нет, ты никогда не выкручивал мне руки. Я не такая, как она. Ей ты мог бы крутить руки, и она все равно плевала бы тебе в глаза и скрещивала ножки. У мужиков есть специальные клички для таких, как я, слышала, они пишут их на стойках в душевых. Но все дело — в желании тепла, в потребности быть согретой. Потребности любить. Разве это так плохо?
— Нет. Совсем нет. Но, Люси…
— Но ты в это не веришь, — насмешливо произнесла она. — Поэтому ты продолжаешь бегать за мисс Высокогрудкой, а в промежутках у тебя есть Люси для постельных забав после заката.
Он медленно кивнул. Это было правдой — каждое слово. И он слишком устал, слишком измучился, чтобы спорить с этим. Она, кажется, поняла это; выражение ее лица смягчилось, и она положила руку ему на плечо.
— Если ты поймаешь ее, Ларри, я первая брошу тебе букет цветов. Я в жизни никогда никому не завидовала. Только… постарайся не очень разочаровываться.
— Люси…
Вдруг ее голос налился неожиданной силой, на мгновение его руки покрылись мурашками.
— Просто мне пришло в голову, что любовь очень важна сейчас — только любовь сумеет спасти нас; против нас — ненависть… хуже — пустота. — Голос ее упал. — Ты прав. Уже поздно. Я иду спать. Ты идешь?
— Да, — сказал он и, когда они встали, без всякого расчета обнял ее и нежно поцеловал. — Люси, я люблю тебя, как умею.
— Я знаю, — устало улыбнулась она. — Я знаю, Ларри.
На этот раз, когда он обнял ее, она не стряхнула с себя его руку. Они вместе вернулись в лагерь, вяло позанимались любовью и заснули.
Надин проснулась, как кошка в темноте, минут через двадцать после того, как Ларри Андервуд и Люси Суонн вернулись в лагерь, и минут через десять после того, как они закончили заниматься любовью и погрузились в сон.
Ужас стальной струной звенел в ее венах.
«Кто-то хочет меня, — подумала она, прислушиваясь и ожидая, пока утихнет сумасшедшее биение сердца. Ее расширенные и полные ужаса глаза уставились в темноту, туда, где свисающие ветки вяза бросали тени на небо. — Вот оно что. Кто-то хочет меня. Это правда. Но… это так холодно».
Ее родители и брат погибли в автомобильной катастрофе, когда ей было шесть лет; в тот день она не поехала с ними навестить свою тетку с дядей, а осталась поиграть с подружкой, жившей по соседству. Так или иначе, брата они любили больше, это она помнила. Брат не был похож на нее, маленькую сиротку, украденную из приютской колыбели, когда ей было четыре с половиной месяца. Братик был — маэстро, туш! — Их Собственный. Но Надин всегда и навечно принадлежала одной лишь Надин. Она была дитя земли.
После катастрофы она стала жить у тетки с дядей, поскольку других родственников не осталось. Горы Уайт-Маунтинс восточного Нью-Хэмпшира. Она помнила, как они взяли ее в поездку по подъемной дороге на гору Вашингтон, когда ей исполнилось восемь, и как от высоты у нее пошла кровь из носа, и они рассердились на нее. Тетя и дядя были слишком старыми, им было много за пятьдесят, когда ей исполнилось шестнадцать — именно в тот год она и бежала по влажной от росы траве под луной. То была хмельная ночь, когда мечты возникают из прозрачного воздуха и сгущаются, превращаясь в ночное молоко фантазий. Ночь любви. И если бы парнишка поймал ее, она отдала бы ему все ценности, какие у нее были; да разве это имело бы значение, если бы он поймал ее? Они бежали — разве не это было самое главное?
Но он ее не поймал. Туча наползла на луну. Роса стала липкой и неприятной — это пугало. Вкус вина во рту внезапно сменился каким-то кисловатым, насыщенным электричеством привкусом. Произошла некая метаморфоза: возникло ощущение, что она должна, обязана ждать.
А где он был тогда, ее суженый, ее темный жених? По каким улицам, по каким заброшенным дорогам и пригородным темным окраинам бродил он, пока во время легкой болтовни за коктейлем мир аккуратно и рационально раскладывали по полочкам? Какие холодные ветры принадлежали ему? Сколько динамитных шашек торчало в его потрепанном рюкзаке? Кто знал, как его звали, когда ей было шестнадцать? И каков его возраст? И где был его отчий дом? И что за кормилица прижимала его к своей груди? Она не сомневалась лишь в том, что он сирота, как и она сама, и время его пока не настало. Он ходил по дорогам, которые еще не были проложены, хотя она тоже успела ступить по ним, пусть и одной ногой. Перекресток, где они должны были повстречаться, находился еще далеко впереди. Он был американцем, это она знала, человеком, который любил молоко и яблочный пирог и понял бы скромную прелесть красной льняной ткани в клетку. Америка была его домом, и дороги его были тайными: укромные шоссе, подземки, где направления написаны рунами. Он был другим существом, варваром, темным человеком, Праздным Гулякой, и скошенные каблуки его сапог цокали по благоуханным дорогам летней ночи.
«Кто знает, когда придет суженый?»
Она ждала его нетронутым сосудом. В шестнадцать она чуть не сдалась, и еще раз в колледже. Те двое ушли, рассерженные и сбитые с толку, как Ларри сейчас, чувствуя ее душевное смятение, состояние некоего предопределенного, мистического внутреннего распутья.
Боулдер был местом, где дороги расходились.
Время настало. Он позвал, приказал ей прийти.
После колледжа она с головой зарылась в работу, сняв домик с двумя другими девушками. Кто были ее соседки-подруги? Они приходили и уходили. Лишь Надин оставалась и вела себя любезно с молодыми людьми, которых приводили ее сменявшие друг друга соседки, но у нее самой никогда не было парня. Она догадывалась, что они судачили о ней, называли ее старой-ждущей девой, может, даже предполагали, что она тайная лесбиянка. Все это было неправдой. Она была просто… нетронутой. Ждущей.
Порой ей казалось, что вот-вот наступит перемена. В конце дня, складывая игрушки в пустой классной комнате, она неожиданно застывала с блестящими расширенными глазами и забытым в руке чертиком-в-табакерке. И она думала: «Грядет перемена… скоро подует большой ветер». Порой, когда ей приходили в голову такие мысли, она ловила себя на том, что оглядывается, словно ее преследуют. Потом это чувство разрушалось, и она вымученно улыбалась.