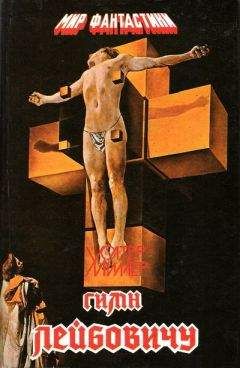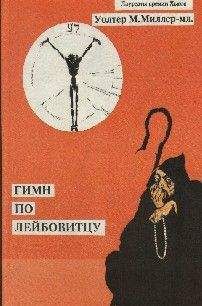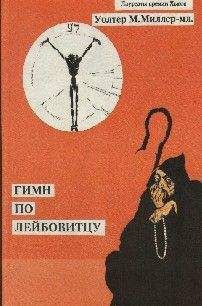Уолтер Миллер - Гимн Лейбовичу
— Gratiisima nobis causa, fili[61] — пропел в ответ старец в белом и объяснил, что его сердечным желанием является провозглашение торжественной декларации о том, что блаженный мученик находится среди святых, но что на это должно быть особое божественное указание, sub ducatu spiritus[62] чтобы он мог исполнить просьбу Агуэрры. Он призвал всех молиться об этом указании.
Снова громовые раскаты хора наполнили храм святой литанией: «Отец небесный, Господь наш, яви нам свою милость. О святая троица, Бог наш единый, miserere nobis!»[63]
Святая дева Мария, молись за нас. Sancta Dei Genitrix, ora pro nobis. Sancto Virgo virginum, ora pro nobis…[64]
Литания продолжалась. Франциск посмотрел на изображение блаженного Лейбовича, недавно торжественно открытое. Фреска была выполнена в традиционном стиле. Она изображала самосуд толпы над блаженным, но на его лице не было той кривой улыбки, какой улыбалась статуя работы брата Финго. Франциск нашел фреску великолепной, подстать остальному убранству храма.
— Omnes sancti Martyres, orate pro nobis[65]… Когда литания закончилась, монсеньор Мальфредо Агуэрра снова обратился к папе, испрашивая, чтобы имя Исаака Эдварда Лейбовича было официально внесено в календарь святых. И снова папа молил о божественном указании, распевая «Veni, Creator spiritus».[66]
И еще, в третий раз Мальфредо Агуэрра просил о провозглашении.
— Surgat ergo Petrus ipse…[67]
И вот, желанное мгновение наступило. Лев XXI речитативом объявил решение церкви, принятое по указанию святого духа и провозглашающее в качестве свершившегося факта то, что древний и до сих времен малоизвестный технический специалист по имени Лейбович действительно является святым на небесах, чьего могущественного заступничества можно и должно благоговейно испрашивать. В его праздничный день должна свершаться месса в его честь.
— Святой Лейбович, молись за нас, — выдохнул брат Франциск вместе со всеми.
После короткой молитвы хор разразился Те Deum.[68] Отслужили мессу, славящую нового святого, и все было кончено.
Небольшая группа пилигримов, сопровождаемая двумя sedarii[69] внутреннего дворца в алых ливреях двигалась через бесконечную чреду коридоров и комнат, время от времени останавливаясь у узорчатых столов перед чиновниками, которые проверяли их грамоты и ставили гусиными перьями свои подписи на licet adire,[70] a sedarii относили их к другим чиновникам, чьи титулы становились все длиннее и непроизносимее по мере того, как группа продвигалась дальше.
Брат Франциск весь дрожал. Среди его спутников-пилигримов были два епископа, некий человек, одетый в золото и горностаевый мех; вождь клана лесных племен, обращенный в лоно церкви, но все еще носящий одежду и головной убор из шкуры пантеры — его племенного тотема; «простак», одетый в грубо выделанную кожу и несущий на руке сокола-сапсана с колпачком на голове — очевидно, в дар святому отцу — и несколько женщин, которые, (насколько Франциск мог судить по их поведению), были женами или наложницами «новообращенного» вождя клана пантеры, или, скорее, бывшими наложницами, от которых вождь должен был отказаться по канонам церкви, но не мог по законам племени.
Взобравшись на scale caelestis,[71] пилигримы были встречены одетым в черное cameralis questor[72] и проведены в маленькую приемную перед большим консисториальным залом.
— Святой отец примет вас здесь, — негромко сказал слуга высшего ранга sedarius несущему удостоверения. Он посмотрел на пилигримов неодобрительно, как показалось Франциску, и что-то прошептал sedarius. Тот покраснел и тихо обратился к вождю клана. Вождь сердито глянул на него, но снял свой оскалившийся клыками головной убор, так что голова пантеры осталась болтаться у него за плечами. Состоялось короткое совещание по поводу размещения паломников, во время которого Его Высочайшая Елейность, главный слуга, тоном кроткого выговора определял места для гостей, словно для шахматных фигур, в соответствии с неким тайным протоколом, который был внятен, наверное, только ему самому.
Вскоре появился папа. Маленький человек в белой сутане быстро вошел в комнату для приемов, следом втекла свита. На какой-то момент у брата Франциска закружилась голова. Но он поборол себя, вспомнив, что дом Аркос грозился сжечь его живьем, если он грохнется в обморок во время аудиенции.
Пилигримы упали на колени. Старик в белом милостивым жестом приказал им подняться. Брат Франциск наконец набрался храбрости и осмотрелся. В храме папа выглядел сверкающим белым пятном среди моря цветов. Здесь же, в приемной, брат Франциск постепенно стал осознавать, что папа отнюдь не девять футов ростом, как об этом говорили легенды язычников. К удивлению монаха, этот хилый старик, отец князей и королей, опора мира, наместник Христа на Земле, выглядел куда менее грозно, чем аббат дом Аркос.
Папа медленно шел вдоль ряда пилигримов, приветствуя каждого. Он обнял одного из епископов, разговаривал с каждым на его родном диалекте или через переводчика, посмеялся над выражением лица монсеньера, которому поручили нести сокола, поприветствовал вождя лесных племен ритуальным жестом его племени и произнес слово на лесном диалекте, которое заставило вождя-пантеру просиять восторженной улыбкой. Папа обратил внимание на свисающую голову лесной пантеры и собственными руками водрузил ее на голову лесного вождя. Тот надулся от гордости и стал осматривать комнату, очевидно, надеясь встретиться взглядом с Его Высочайшей Елейностью, главным слугой, но тот, казалось, растворился в деревянных панелях.
Папа приблизился к брату Франциску.
Ессе Petrus Pontifex.[73]
Вот Петр, первосвященник. Сам Лев XXI, «… коего единый Господь назначил властителем надо всеми странами и царствами, дабы он вырывал с корнем, ослаблял, опустошал, уничтожал, насаждал и возводил, охраняя верующих…» А еще в лице папы Льва монах видел доброжелательную кротость, указывающую, что он был достоин этого сана, более высокого, чем любой иной, дарованный князьями и королями, сана, который давал ему право называться «рабом рабов божьих».
Франциск быстро преклонил колени и поцеловал кольцо рыбака.[74]
Поднявшись, он судорожно сжал за спиной реликвию святого, как бы стыдясь показать ее. Янтарные глаза священника явно ободряли его. Лев говорил в мягкой покровительственной манере. Он питал неприязнь ко всяческой аффектации, считая ее ненужной и обременительной, хотя и использовал иногда в силу обычая при разговорах с посетителями, менее дикими, чем вождь племени пантеры.