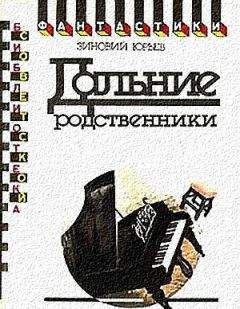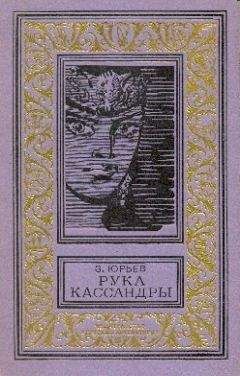Зиновий Юрьев - Дальние родственники
Я почувствовал, как кровь бросилась мне в лицо.
"Простите, - говорю, - Соня. Это действительно из моего письма, но никуда я его не отправил, хотя надписал даже адрес на конверте. Перечитал письмо " решил, что некрасиво мне гак жалостливо писать... Оно и сейчас в тумбочке лежит".
"И все-таки он его получил, - как-то грустно и кротко сказала Соня. - И я прочла его спустя сто восемьдесят семь лет после того, как вы его написали".
Милые мои друзья, я вам уже раз десять, наверное, повторил, что перестал в те минуты чему-либо удивляться. Нет, неправда это. Как ни был мой бедный маленький разум анестезирован всем происшедшим, этого апперкота он выдержать не мог и отключился в глубоком нокдауне. Нет, упасть я не упал, даже сам был себе рефери. Считаю про себя: раз, два, три, четыре... При счете пять собрался, поднялся, фигурально выражаясь, хотя был, пользуясь опять же боксерским языком, грогги.
"Машина времени?" - с трудом прокаркал я, потому что голос меня не слушался.
"Ну, насчет машины - это разговор особый, но мы пришли к вам из будущего. Я ваша... - Девушка наморщила прекрасный свой лобик, зажмурила глаза, губы ее что-то беззвучно шептали, и она загибала пальцы на руке. - Я ваша... прапрапраправнучка. А вы, стало быть, мой прапрапрапрадед".
Что я мог сказать? Я сказал себе словами соседа моего Константина Михайловича: абер дас ист ни-и-чеево-о... А что я еще мог себе сказать? Здравствуй, детка, давненько что-то я тебя не видел. Так, что ли?
Должно быть, от этого карканья лицо у меня стало таким глупым, что Соня вдруг кинулась мне на шею и начала целовать меня.
"Дедушка, - шептала она. - Вы не один на белом свете... ты не один. Когда я прочла письмо... твое... так мое сердечко сжалось, от любви, жалости, состраданья, что говорю Сереже: хочу посетить прапрапра... Сережа - младший хроноскопист, они как раз занимаются временными пробоями. Он говорит:
"Ты знаешь, что значит твое имя?"
"Ну?" - говорю.
"Софья - мудрость. А ты говоришь глупости. Ты же знаешь, каких энергетических затрат требует пробой. Каждое путешествие во времени обсуждается Советом".
"Я понимаю, - говорю, - но дедушка один в Доме ветеранов. Ему плохо. Он зовет внука, а внук далеко",
"Ты взрослый человек, Соня, я не имею права".
При этом рассказе Сережа смотрел на Соню с восхищенной улыбкой, и видно было, что он действительно любит ее.
И чуточку, капельку успокоила меня эта улыбка, как будто хоть что-то увидел знакомое в невероятном калейдоскопе. И в двадцать втором веке влюбленные, оказывается, смотрят на возлюбленных точно так же, как и мы...
"Сереженька, - продолжает Соня, - я понимаю, что нельзя, но я не могу... И без твоего дурацкого пробоя сердце мое пронзило время, и я чувствую, понимаешь, чувствую его одиночество... Что тебе сказать, дедушка, Сережа никогда еще ни в чем мне не отказывал, и я... и мы здесь".
Что я мог сказать, друзья мои? Вы спросите: а ты верил, что они прямо из будущего? Не знаю. В эти минуты время перестало быть неудержимым прямым потоком. Оно вдруг представилось мне похожим на наши неторопливые, петляющие милые русские речушки, которые иногда такие излучины закладывают, что перейти от одной протоки до другой - метров двести, а проплыть для этого нужно двадцать километров.
"Дедушка, дедушка, - продолжала Соня, - не оставайся тут".
"А... куда же мне деться?" - глупо спросил я.
"Пойдем с нами".
"Куда?" - еще глупее спросил я.
"К нам. Туда". - При этом она почему-то кивнула на окно, как будто приглашая меня вылететь с ними н сесть на ветку дерева.
"В будущее?" - переспросил я. И верил я, и не верил, и оттягивал время, что угодно готов был спросить: который час, а где вы остановились, а чем заплатили за апельсины. Что угодно, только оттянуть решение, потому что было оно громадным, непосильным, невозвратным. Да, конечно, в те секунды казалось оно мне невозвратным.
"Да, дедушка, да, к нам, - прошептала Соня. - Ты не будешь одинок с нами, не будешь немощен и стар".
Прошептала и замолкла. И смотрели они на меня - она и ее спутник - терпеливо и торжественно. Понимали, наверное, какая буря бушевала в моей старенькой душонке. Такие порывы ветра и крепкую новую постройку могли бы потрепать основательно, а с ветхого домишки и вовсе крышу сорвать, если не унести целиком. Это только мы, литераторы, испокон века распространяем миф, будто люди думают связно и логично. На самом деле и при нормальных обстоятельствах мысли наши бегут, скачут, крутятся, толкаются, как овцы в загоне. А тут вы только представьте на минуточку, что я должен был решить. И неслись на дьявольской бешеной карусели какие-то обрывки образов, фраз, эмоций. Какие-то благостные пейзажи пролетали перед моим мысленным взором, люди в белых свободных одеяниях, только что без крылышек и арф, и я сам в таком же снежном хитоне. То ли иду, то ли плыву в теплом воздухе. И Дом наш, все мои друзья, милые друзья, неспешные разговоры на скамеечке, какое давление, как дети, что внуки, в Париже террористы опять бомбы взрывают. Комната своя, последнее пристанище. И опять вы, друзья мои, отрада моя и опора, проносились перед моим мысленным взором. Их-то как остановить? И с Сашкой, с внуком, как расстаться? Проплыл передо мной его "Паустовский", а на палубе Сашка с биноклем в руках смотрит на меня и машет рукой.
А тут еще кружатся бумажной вьюгой, несутся листки из пухлой моей истории болезни, болезней, поправил я себя, а не болезни. А на заднем фоне этого безумного калейдоскопа цифра семьдесят восемь мигает, напоминает о себе, как на здании гидрометцентра, время и температура, знаете? То время, то температура.
Что вам сказать, милые друзья, замычал я вслух даже от отчаяния. И хочется взлететь, и жалко стропы рвать. И хочется новой жизни, и со старой расстаться жалко. Какая ни есть, а моя, хоть и почти вся прожитая, а все-таки дорогая. Уйти хорошо, но и родные могилки оставить трудно.
Поднял я голову, посмотрел на Соню и Сергея, вопросительно так, словно подсказки ждал, а они стоят молча, лица печально-торжественные. И не подсказывают.
Промелькнула у меня почему-то в памяти Майка Финкельштейн, долго сидел я в школе за одной с ней партой: серые добрые глаза за толстенными стеклами очков, жесткие кукольные косички. Училась она, не в пример мне, прекрасно и еще прекраснее умела подсказывать, одними уголками губ. Я долго потом не мог отделаться от привычки, когда не знал чего-нибудь, искать взглядом Майку.
Погибла она во время войны, была врачом в военно-полевом госпитале.
Но не было теперь рядом Майки.
Хватаюсь в муке опять за сомнения: а может, все это вздор? Может, зажмурю сейчас глаза покрепче, открою их, и окажусь на кровати, а рядом Костя посапывает. Так и сделал. Открываю глаза - все то же. Стоит Соня, смотрит на меня. А Сергей то на нее, то на меня.