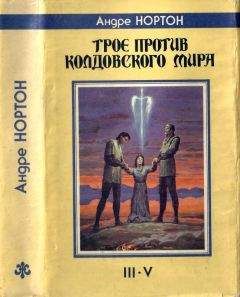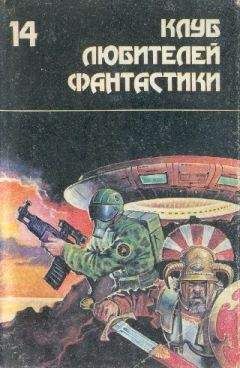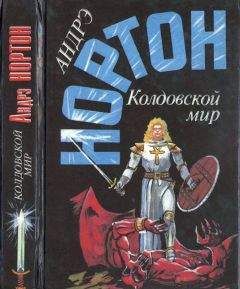Станислав Лем - Магелланово Облако. Человек с Марса. Астронавты
— Не знаешь?.. — отозвался Тер-Хаар; в его голосе слышалось разочарование. — А наяву ты могла бы проделать такой опыт?
— Боюсь, что нет, — ответила, помолчав немного, Калларла.
— Почему?
Она наклонила голову.
— Не потому, что у меня не хватило бы смелости, но… Не знаю, право, не знаю…
— Может быть, это кажется тебе каким-то гротескным подражанием деяниям Бога, того творца, в которого верили встарь? — подзадорил ее Тер-Хаар.
Калларла промолчала. Улыбка постепенно сошла с ее лица.
Тут раздался далекий стеклянный звук, словно скатившийся с покрытых вечерним сумраком гор.
— Обед! — сказал Тембхара, вставая, и лишь теперь я заметил, какой он высокий. — Ну и засиделись же мы!
Прощаясь с женой Гообара, я немного задержался и вдруг спросил:
— У тебя часто идет дождь?
— Часто. Ты любишь дождь?
— Да.
— Тогда заходи.
Я вышел в коридор и услышал громкий голос Тембхары:
— Это же совершенно нереально: результатов такого опыта нужно было бы ждать сотни миллионов лет. Если бы он и удался, то откуда взять столько терпения?!
Он рассмеялся, открыл дверцу лифта и вошел в него вслед за остальными. Стеклянная кабина бесшумно исчезла в глубине шахты, но его низкий смех еще долго звучал в моих ушах.
Тер-Хаар просил зайти к нему после обеда. Искать его надо было в исторической лаборатории, и Нильс, сын инженера Ирьолы, взялся проводить меня туда. Помещение, где работали историки, находилось на корме, коридоры там были пониже и поуже, чем в центральной части корабля.
— Это здесь, — сказал Нильс, пропуская меня вперед.
Мне пришлось пережить еще одну неожиданность. Я думал, что попаду в просторное, светлое помещение, где ученые-историки исследуют старые манускрипты, пергаментные рукописи. А мы очутились на пороге погруженной в полумрак комнаты, такой узкой и высокой, что взгляд терялся в темноте островерхого свода, похожего на внезапно застывший взмах крыльев гигантской летучей мыши. Длинные столы и пюпитры у стен были сделаны из лиственницы. Там под низко висящими лампами сидели ученые. Один из них обернулся — это был Тер-Хаар. Ослепленный светом, он прикрыл рукой глаза и воскликнул:
— А, это вы?! Вот что, дорогие, подождите-ка минуточку. Хорошо? Я сейчас закончу.
Делать было нечего; я стал рассматривать сидящих за столами. Кроме Тер-Хаара в комнате работали еще двое. На лицо одного из них, Молетича, падал свет, отраженный от разбросанных на столе бумаг. Кое-кому Молетич казался смешным. Мне — никогда. Правда, у него была узкая голова с подбородком, торчавшим, как локоть; к тому же еще и оттопыренные уши, которые на обычной голове не привлекали бы внимания, но на этой назойливо лезли в глаза. Молетич всегда улыбался, как бы говоря: «Ничего, что я смешон, я это знаю, и даже, видите, это и меня самого забавляет».
Позднее Тер-Хаар рассказывал мне, как Молетич с хитрым бескорыстием подсовывал молодым ученым свои идеи, а те принимали их за собственные. Знания его были огромны. В этот момент, когда я первый раз вошел в историческую лабораторию, мне пришлось слушать, как Молетич пылко жалуется на отсутствие архивных данных, касающихся какого-то Гинтера или Гитлера! Такое мелочное копание в остатках седой старины казалось второстепенным занятием. И тут мне пришло в голову, что не следует прислушиваться к разговору ученых, если тебя к этому не приглашали, и я стал смотреть, куда девался Нильс. Он стоял неподвижно в глубине зала, запрокинув голову. Следуя за его взглядом, я увидел на стене большой четырехугольник и поначалу принял его за окно. Но это не было окном.
Забыв об окружающем, я двинулся к четырехугольнику, не сводя с него глаз. Зал освещался немногими довольно слабыми лампами, подвешенными над столами, их рефлекторы были направлены вниз, и на стены падал лишь отраженный отблеск. В полумраке я увидел большую картину, пробудившую одно из самых ранних воспоминаний моего детства. Однажды я нашел в какой-то бабушкиной книге картинку. Она так удивила и вместе с тем привлекла меня, что я не мог от нее оторваться. Бабушка отобрала у меня книжку, говоря, что детям не следует смотреть на зверства варварской эпохи, и вот двадцать лет спустя на палубе «Геи», в затененной лаборатории историков я стоял перед той же самой картиной — огромной, заключенной в почерневшую от старости золоченую раму.
Я подошел к Нильсу и встал рядом с ним. Мальчик, казалось, не дышал. Что он видел там?
Ночь, башни далекого города, черное, беззвездное небо и на залитой кровью земле — две группы людей, которых разделял свет фонаря. Одни стояли серовато-коричневой громадой и, втянув головы в плечи, держали, выставив перед собой, короткие палки или трубы. Против них сбились в кучку несколько темных фигур, впереди которых стоял на коленях, выпрямив спину и широко раскинув руки, человек. В его раскинутых руках, во вдохновенном и страшном лице жизнь и смерть смешались так же, как кровь с землей у его ног. Потом, спустя годы, ко мне, уже взрослому, этот человек являлся по ночам в снах, от которых замирало сердце.
Я положил руку на плечо Нильса. Он ничего не понимал, как когда-то ничего не понимал и я, но дрожал, как и я когда-то.
Вдруг яркий свет залил лабораторию: кто-то из историков зажег верхние лампы. И тотчас раздался голос Тер-Хаара:
— Ты этого еще не видел, Нильс?
Мальчик повернул к нему бледное лицо.
— Что… значит эта картина? — с трудом произнес он. — Что делают люди в сером с теми, другими?
Историки подошли к нам.
— Это произведение относится к первой половине девятнадцатого века, — сказал один из них.
— Здесь изображены испанские крестьяне, схваченные отрядом солдат… — добавил Молетич.
— Но это ничего ему не объясняет, — вмешался я. — Эта картина…
— Постой! — повелительно прервал меня Тер-Хаар и тоном, какого я еще никогда у него не слышал, сказал: — А ну-ка, скажи сам! Смелей! Что ты видишь?
Нильс молчал.
— Не смеешь? Нет, говори! Расскажи, что тебе кажется, что ты думаешь, что чувствуешь?
— Кажется, они их…
— Ну, говори!
— Убивают…
Когда прозвучало это слово, наступила абсолютная тишина. Потом Тер-Хаар посмотрел на своих товарищей, на его лице появилось торжествующее выражение.
— Слышите? — Затем, обращаясь к Нильсу, сказал: — Этого художника звали Франсиско Гойя. Он жил тысячу триста лет назад. Запомни его имя: это был один из тех людей, которые никогда не умирают.
Вечером, возвращаясь от Тер-Хаара, я запутался в лабиринте судовых коридоров. Утомленный обилием впечатлений этого дня — он казался бесконечным, — я наконец забрел в широкую галерею, примыкавшую к саду, и уселся на маленькой скамейке. Она стояла у стеклянной стены. За стеной бесшумно раскачивались огромные ветви косматых елей с серебристой хвоей. Вдруг послышался знакомый голос. Меня звала Анна Руис. Она шла от лифта и улыбалась еще издали. Анна уговорила меня посмотреть видеораму, и мы отправились в зрительный зал; там демонстрировалась предлинная драма в двух сериях — история одной экспедиции. Действие происходило вначале на Сатурне, затем на Юпитере. Хотя нам показали много действительно красивых пейзажей, из которых особенно сильное впечатление произвел один: буря в океане аммиака — настоящая оргия красок, от янтарной до коричневой и золотисто-черной, — тем не менее, уходя из зала, я облегченно вздохнул.