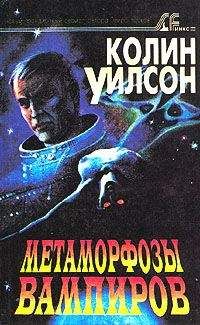Колин Уилсон - Метаморфозы вампиров (сборник)
— А как загорелось издательство? — поинтересовался я.
— Да какой-то сумасброд подпалил, из недовольных. Работал в нем и был уволен за мошенничество...
Заканчивать историю Лангу не было смысла. Остальное я знал.
Ланг-племянник сказал, что изучил увеличенные фотоснимки манускрипта и убедился, что дядино «завершение» расшифровки — самообман. Сам по себе перевод он никогда не видел, поэтому представления не имел, расценивать ли его вообще как серьезную научную работу. Теперь же мой приезд заставлял задуматься, не придется ли теперь пересматривать все дело заново. Ланг рассмеялся с некоторой растерянностью.
— Я, разумеется, не считаю, что у дяди в мыслях было что-то насчет чудовищ с глазами-плошками. И полковника того я много раз видел; вел он себя достаточно разумно. Просто плут он, вот и все, черт бы его. Это он изобрел всю эту галиматью насчет подземных чудовищ. И все же если рукопись Войнича и есть«Некрономикон», то получается, мой дядя был в общем-то в своем уме, пока не поехал в Уэлльс.
— А что случилось с переводом?
— Я более чем уверен: моя мать его уничтожила.
— А отпечатки?
— Их тоже уничтожили. Но если вам интересно, у меня есть кое-что из дядиных заметок. Я в них никогда не заглядывал. Желаете изучить — пожалуйста.
— Очень бы хотелось. Но что я действительно хочу видеть, так это саму рукопись Войнича.
— Безусловно. Тогда пойдемте вниз. Познакомлю вас с библиотекарем.
Так что через полчаса я сидел один на один с раскрытой рукописью в кабинете библиотекаря. Рукопись состояла из ста шестнадцати тяжелых листов, исписанных черными чернилами, отливающими бурым и лиловым.
Что было совершенно предсказуемо, так это то, что рукопись не выдавала вообще никаких «вибраций». Я мог вызвать в себе полную отрешенность — ничего так и не появлялось, даже слабых вибраций, что исходят от базальтовой фигурки. Абсолютная, стопроцентная интерференция.
Растерянность вызывало еще и то, что я не сознавал «их» присутствия в помещении. Это навело меня на подозрение, что интерференция неактивна. Рукопись была попросту «омертвлена», чтобы не выдать намека на свое происхождение.
Но было кое-что, чего «они» предотвратить не могли. Моей повышенной чувствительности было легко «довершать» символы. Стоило навести лупу на один из чернильных завитков и сосредоточиться на нем, как становилось вдруг ясным, как он выглядел до того, как чернила облупились. Дело здесь вовсе не в «видении времени» или интуиции, просто способность к критическому сопоставлению, обострившаяся до чрезвычайной тонкости. Возле меня на столе лежал еще и алфавит арабского языка, поэтому достаточно, было вглядеться на несколько секунд в страницу, чтобы в уме отложился всякий символ. Техника, очень близкая к обычному «скоростному чтению». После этого несложно было уловить соответствие в рукописи Войнича.
Ближе к полудню Джулиан Ланг съездил к себе домой и возвратился с заметками дяди. Они находились в двух красных папках-скоросшивателях. Заметки были чисто рабочие, вспомогательные. Ланг знал латынь и греческий, но не знал арабского, так что страницы были посвящены кропотливому копированию с арабского алфавита и словаря.
Вызвав у себя созерцательную объективность, я смог по двум папкам составить довольно-таки подробное представление о Ланге. Человек он был довольно желчный и нетерпеливый, но, по сути, нежный и самоуничижительный. Первая тетрадь и половина второй были написаны на корабле в Атлантике; оставшаяся часть второй — в номере лондонского отеля и далее в отеле Кэрлиона-он-Аск [366]. Все было написано до того, как Ланг заподозрил об «их» существовании. Детальный перевод находился, очевидно, в третьей тетради, которую уничтожила мать Джулиана Ланга, но и в этих тетрадях содержалось много интересных отрывков. А где-то посередине первой тетради приводилась буквальная транскрипция — арабскими буквами — первой страницы рукописи Войнича, давшая мне возможность сверить собственные результаты. Я сделал довольно много ошибок, многие из них — из-за различия между средневековым и современным арабским, но на восемьдесят процентов все оказалось точно.
Что сразу же стало ясным, это что книга была не самим «Некрономиконом», а комментарием к нему, составленным неким монахом тринадцатого столетия, которого Ланг именует Мартин-Садовник. Но там содержалось столько продолжительных цитат из «Некрономикона», что из нее, несомненно, складывалась очень полная и точная картина той книги.
Начальная страница в переводе Ланга гласит следующее: «Книга черного имени, содержащая историю того, что пришло до человека. Великие Старые были разом и одним, и многим. Они не были раздельными душами подобно людям, вместе с тем они были раздельными волями. Одни говорят, они явились со звезд; иные говорят, они были душою Земли, когда оная образовалась из облака. Ибо вся, жизнь происходит извне, где сознания нет. Жизни нужно зеркало, потому она вторглась в мир материи. Там она стала своим собственным врагом, ибо они (тела?) обладают формой. Великие Старые хотели избежать формы, следовательно они отвергали тяжелый материал тела. Но потом они утратили способность действовать. Следовательно, они нуждались в слугах».
И когда я читал это, на меня медленной волной нахлынул восторг, предвкушение, потаенная уверенность. Двусмысленности здесь не было, облекалось в слова то, что я уже подозревал. В фундаментальном смысле это утверждение философии Шоу и Бергсона. Кратко это можно передать следующим образом: параллельно вселенной материи простирается еще одна вселенная, вселенная чистой жизни. И жизнь заполонила материю — вначале голимой силой (как в растении или амебе), затем с использованием озарения или хитрости, через сознание мозга.
Так вот, индивидуальное сознание, типичное в людях, имеет великие преимущества и великие недочеты. Индивидуальность означает сужение, а сужение может быть полезным. Она хороша при работе вблизи. Увеличительное стекло и микроскоп мы изобрели для того, чтобы сужать свое зрение, поскольку узость компенсирует точность. Однако узость означает и изъян в цели, ущербность воли, ибо цель зависит от широкого видения, ясного охвата задачи.
В таком случае, по рукописи Войнича, самая ранняя попытка «вторгнуться в материю» не является усилием одиночки. Плацдармом такого вторжения была избрана газообразная материя звезд. Потому «существа», обитавшие в межзвездных пространствах, мало отличались от агрессивных облаков жизненной энергии (у Лавкрафта об одном из таких «существ» есть интересный рассказ «Сияние извне»). Вместе с тем, как газообразные облака конденсировались в планеты, существа эти начали уяснять, что сфера действия у них ограничена. Отсюда и слова Ватиканского манускрипта: «И так жили семьсот восемьдесят тысяч катун, пока облако стало Землей, а их тела стали из земли».