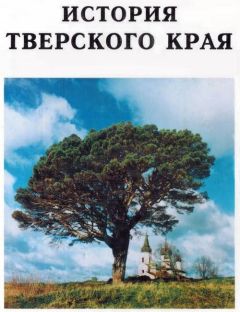Владимир Шибаев - Призрак колобка
Дверца лимузина вдруг распахнулась дамской рукой в черной перчатке, и очаровательная мадам Аделаида, уже устроившая на кожаных сиденьях кружева пеньюара, воскликнула:
– Сюда, сюда, дорогой соседушка. Ох, и презентация похорон! – и лимузин рванул с места.
Я бросился к старой Доре, стоящей посреди хаоса сгнившей копной сена, выхватил у нее кассету с пеплом учителя, сунул за пазуху и поволок дурную старуху куда-нибудь укрыться от звериной суматохи неравного сражения – в каком-нибудь дупле ближайшего дуба или траншее треснувшей земли.
Должен сказать, что отсиделись мы ловко. Из бокового земляного окопа возле кучи глины за треснувшим тополем нам махала и звала тоненькая девушка Тоня с искаженным испугом и нервным тиком лицом.
* * *Я без сил лежал на узкой коечке в подсобке Акима Дормидонтыча, дремал и ни о чем не думал. Рядом на краешке твердого ложа присела девушка Антонида, что-то тихо твердила, оправдывалась и гладила мне ладонью рубашку на плече. До меня иногда доносились отзвуки ее речи:
– … очень за маму… зачем? Страшно… пошла одна… она увлекающаяся, нет цели… куда-то на кладбище… бегу… вас, вы… боже, бьют, бьют палками… ум слабосильный…
В соседней зале как-то оформленный Дорой в подобие человека шизоид носился с примочками, бинтами и грелками для охающей хозяйки провизорской.
– Этот Алеша… такой чудик…
– Что еще за Алеша? – в полудреме взбрыкнул я. – И что еще…
– Ну, Петенька, вы зовете его шизик, разве это правда? Он поразительно сообразительный…
– А как вообще? Неразговорчивый.
– Удивительно просто. Алеша любит, обожает доброе русское слово. Но как-то по своему, не объясню. Я просто сказала: назовите пожалуйста свое имя, и вы перестанете плакать. И икать. Второе его проняло.
Я опять взялся дремать, падать, перемешивая явь и сон, а Тоня сидела и все гладила ладошкой рубашку, ворот, плечо…
Ловко же удалось выбраться из той длинной ямы, похоже, прообраза братской могилы для кассет с пеплом низших каст – потерявших, кроме разума, имя, живущих в скотстве, опустившихся в жгучие растворы и других таких-же прочих белковых тел.
По неглубокому рву или окопу мы по-крабьи проползли пол стадии, и я высунул нос. Какой-то латыш из оцепления или охранения событий прислонил оштыкованное ружье к добытому им с кладбищенских нив скарбу, который он склал в ржавую старинную шаткую тележку из бывшего когда-то супермаркета, из древнего довоенного далека. Стрелок ел с ножа пахучее, даже издали безумно вкусное розовое сало. И уминал темную булку внутрь рта. Что за этим последует, можно было не сомневаться, а лишь ждать. Через пять минут воин отошел к кусту оправляться, и я выскочил, схватил оружие и наставил на пучащегося без подштанников.
Потом в бешенстве заорал «Коли, на плечо… товсь… коли!» и взялся вонзать штык в навоз война.
Тут что-то со мной случилось, перевернулось внутри. Боль от потери друга, погибшего от набора неслучайных случайностей, боль стертая, тупая, упиханная в глубину, вырвалась потоком злобы наружу. Ненависть к жителям и жильцам этой планеты, имеющим способности напасть на похоронное сборище, владеющим даром бить и лупцевать погруженных в печаль и созерцающих дело рук смерти – эта ненависть может без усилий сбить с упора не только разнузданного болвана, трамвайного хама или профессионального скандалиста и забияку. Даже такой, как я, скудный неразмашистый человек, вылетает от удара из лузы покоя и становится и катится зверем-колобком. Плюс не спал. Плюс штык. Обычно истерика без штыка не длительна, не питается злобными соками замученной земли, кислотами погубленных почвенных отошедших куда-то вод и прахом бывших черноземов. Но если в руках острое оружие, то слабый человек втыкает и втыкает его в опасной близости от лежащего, все приближая острие к его голове.
И я кричал что-то и бил сталью возле ушей поверженного. Истерика терзала меня, как тузик пуфик, из губ текли слюни и сопли, я орал так, что меня слышали бессильные корни травы, бушевал и бесился. И готов, совершенно готов был убить.
Тоня повисла на моих плечах и что-то шептала. Поэтому людское чуть тронуло мой слух. И я растерянно оглянулся и сел на землю. Потом, с трудом вспоминая человеческие слова, сказал: сиди, а то хана им. Троцкого. На заводе Урицкого. Он закивал подбородком, белым, как мел, задом и клешнями наемника мыз. Из коляски нами высыпаны были похоронная бумажная иконка, три свечи, чача на дне бутылки и несколько букетиков жалких жестких цветочков, и шкурка от сала. В корыто мы с Тоней водрузили трясущуюся Дору с зажатой в руке маленькой медалькой. Я снял штык с ружья, сунул за пазуху и кинул винтовку в сливной сток.
Медленно, на вертящихся подкашивающихся колесиках мы довезли тележку и Дору километр до конки, конка донесла нас до аптеки, а аптека нанесла на меня плотный слой сонного тумана… дремы и забытья. Страшные подземелья метро им. Аида скосили Петра.
Человеку после применения оружия всегда снится благостное. Сначала под бормотание Антонины мне приснился социализм. В одном ряду с девушкой, рука об руку, в майках и сатиновых трусах мы под стук оркестрового марша бодро вышагивали по красивой, мощенной булыжником площади в виду улыбающихся подбородками старцев с красными бантами на коверкотовых плащах. Над мостовой витало прекрасное время года, поздняя весна перемежалась ранней осенью, по небу летели серебрянные облака демонстрационных аэростатов и плыли красочные муляжи достижений. Вдруг мы, направленные чутким указанием стариков, бросились по праздничным улицам, где румяные селянки предлагали печеные кулебяки и гусей, и горы золотого ранета рассыпались под ноги, мешая бодрому бегу.
Томатный сок был густ, как кровь динозавра, газировка шипуча и хороша для обливаний, волшебное натуральное мороженное стимулировало хохот и невинные, но волнительные соприкосновения маек, трусы развевались на нас, поджарых и молодых, словно простыни на флагштоках любви… и тут я стал терять Тоню.
Проулки, переулки, мелькнувший за булочной и очередью профиль, отчаянный крик и регистрационные столы впритык на всех площадях и углах.
Но вот я выскочил, тревожный, злой, в кислом фабричном поту и пораженный сыпью неверия вдруг в иной сон. Что вывело меня – не знаю, но сыпь испарилась Это был сон коммунизма. Призванная идеей всеобщей любви, опять передо мной явилась на этот неизбывный праздник девушка Антонида, стояла рядом и тихо гладила мне плотную фуфайку и галифе, фуражку и плюмаж, и красивой выделки кожанный ремень.
Мы шли сквозь молочный туман с краями из черничного киселя, тучные стада буренок протягивали к нам морды с немой мольбой «подоить», юные, полные огня и кумыса арабские кобылицы разрезали наш путь и резвились на дальних розовых лугах в чаще полевой кашки и мяты. По дороге мы подавали обильную милостыню многочисленным нищим в чистых крахмальных рубищах, ухоженным и благонамеренным, кои отдаривали нас кто кринкой дикого меда, кто горсткой каленых семян подсолнуха, а кто ягодой или орехом. Эти нищие коммунизма были, ясно, бедны просто из-за скромности, по простоте нужд и обихода.