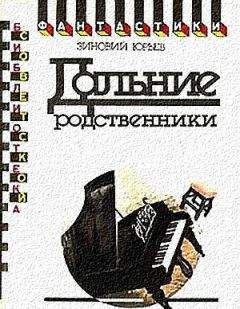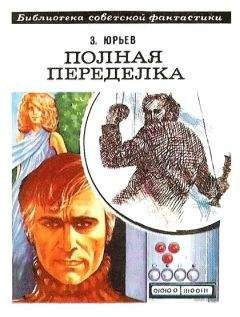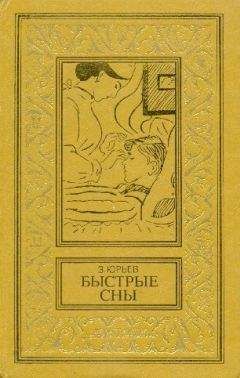Зиновий Юрьев - Повелитель эллов. Фантастический роман
— Постой здесь немножко, — сказал Варда. — Они должны познакомиться с тобой.
— Здравствуйте, — сказал я.
Я не ожидал, что эти нелепые существа ответят мне «привет, паренек», не ожидал, что они кинутся ко мне, чтобы похлопать дружески по спине, но хоть какой-то знак они должны были подать, что слышат меня. Но шароцилиндры не обратили, казалось, на меня ни малейшего внимания.
Все было нелепо. И их тела, и их равнодушное молчание, и приведший, точнее, принесший меня кентавр, и даже моя обида. Она была, пожалуй, самым нелепым из всего. Но в мире, в котором не было ни одной привычной координаты, чтобы ухватиться за нее, приходилось держаться за собственные чувства, какими бы они ни были.
— Подойди, — услышал я голос. То есть я его не услышал, потому что слово это не было произнесено вслух. Я услышал его в своем мозгу.
Что должен сказать человек, подходя к неподвижным существам, что стояли на шарах в полумраке? Я сказал еще раз:
— Здравствуйте.
Я люблю это слово. Мне кажется, это одно из лучших и самых емких слов русского языка. Не короткое, конечно, механическое шипение «здрас-с…», а полносложное и четкое «здрав-ствуй-те». В сущности, оно, это слово, вместило в себя всю нашу философию: здравствуйте. То есть пожелание здравствовать, процветать и наше приветствие.
— Здравствуй, пришелец. Варда рассказал тебе, кто мы?
— Да… но очень мало.
— Он называл нас «неживыми»?
— Да, но я…
— Не надо, Юуран. Так ведь тебя зовут, пришелец?
— Д-да…
— Мне сказал Варда. Подойди.
Я сделал шаг вперед.
— Ближе. Не бойся.
Я сделал еще шажок.
— Не бойся. Прикоснись ко мне. Прикоснись.
Голос в моей голове звучал властно, громко, я ни о чем не мог думать, как будто этот бесплотный голос выдавил из меня все мысли и образы. Голова была огромна, пуста, гулка, и в ней гремел приказ, отзываясь эхом: прикоснись! Ись… ись…
Я поднял руку и повиновался. Я понял, почему Варда называл эти существа «неживыми». То, к чему я прикоснулся, было холодным, гладким, неживым. Металл ли я ощутил под своей рукой или какой-то другой материал, не имело значения. Я знал, что передо мной была не живая плоть, а тело робота.
— Юуран, сейчас я обращусь к тебе с просьбой, которая может показаться тебе странной. Но ты не бойся, никто не желает тебе зла. Сейчас Варда наденет тебе на руки кольца… Протяни руки, Юуран, вот так…
Что я делаю, пронеслась у меня в голове мысль и забилась в панике, они наденут на меня наручники… Что за вздор, какие тут могут быть наручники? Усилием воли я отогнал от себя острое желание спрятать руки и броситься к выходу, который светился теплым оранжевым светом.
Варда надел мне на руки по кольцу, я инстинктивно развел их, чтобы проверить, не соединены ли они цепочкой. Ну, конечно, нет.
— Я объясню, для чего нужны эти кольца, — сказал неживой.
— Я хочу познакомиться с тобой, с твоей памятью, языком, мыслями. Я могу это делать лишь тогда, когда ты недалеко. Мы стары и слабы и плохо теперь слышим. Кольца помогут нам. Если ты отойдешь далеко, так, что мы потеряем твой голос, кольца сожмутся, предупреждая тебя. Когда ты приблизишься, они разожмутся.
Сейчас отдохни, подкрепи силы, мы познакомились с тобой, а потом уже сумеем обменяться как следует.
— Чем? — спросил я.
— Чем могут обмениваться мыслящие существа, кроме мыслей? Иди, Юуран. Тебя манит свет, выйди, если хочешь. Мы здесь потому, что нам нужно только утро…
— Идем, — потянул меня за руку Варда. И мы вместе вышли из полумрака. Я зажмурил глаза от оранжевого буйства. — Отдохни. Здесь тебе будет удобно.
Варда подвел меня к груде веток, листьев, травы, и я покорно и благодарно опустился на буро-оранжевое ложе. Растительность была упруга и мягка, и я вытянулся во весь рост. Постель моя источала еле различимый запах, который был приятен.
Я закрыл глаза. Физически я не устал. Да и с чего бы мне устать, когда я комфортабельно дремал на пушистой меховой спине корра. Но голова моя была полна какой-то предболезненной истомы, и покой казался бесконечно желанным.
Какое-то время я лежал, не двигаясь, не думая ни о чем, ничему не удивляясь, ничего не страшась. Казалось, я покачивался на тихой, теплой воде, и вода пахла успокоительно и чуть печально.
Но вот кто-то осторожно, бесконечно нежно начал перебирать мои мысли. Слова не могут передать того, что я испытал, они слишком грубы и приблизительны. Может быть, кто-то и сумел бы сделать это лучше, но я: просто не могу подобрать слова невесомо-легкие, как паутинки, мягко-настойчивые, как ладони матери, когда она переворачивает младенца, бесконечно осторожные, как движения хирурга во время деликатнейшей операции.
Кто-то перебирал мои воспоминания. Прикосновения были чуть щекотны, быстры, легки. Вот они вызвали к жизни отца. Я вдруг осознал, что за годы, прошедшие после смерти его, внешний образ отца изрядно стерся, выцвел из моей памяти. Вспоминал я отца часто, но не его лицо, фигуру, руки, а скорее его чувства ко мне, этот трепетный теплый поток.
А теперь эти неподвижные матрешки — я знал, чувствовал, что они хозяйничают в моей голове — извлекли из забытых глубин моей памяти живого отца, во плоти и крови. И он улыбнулся мне светло и печально. Он был старше, чем я помнил его, словно он продолжал жить и стариться и после смерти. Почти совсем седой. Морщинки лучились от уголков глаз. Он вдруг сказал:
— Маленький мой…
Потом мы плыли, то есть плыл отец, плыл на спине, а я лежал на его животе, и он держал меня одной рукой, и я визжал в радуге брызг от ужаса и восторга, и отец казался мне пароходом, потому что он издавал громкие гудки.
Я кашлял. Кашель был болезненный, все от него болело, даже руки и шея. И мама держала меня за руку и громко считала:
— Раз, два, три… девять, десять. Нокаут кашлю.
Брат небрежно и поучительно говорил:
— Разве это руки? Это же клешни, как у рака. Тебе надо учиться рисовать руки. Держи перед собой левую руку и рисуй ее с натуры. С растопыренными пальцами, с пальцами, сжатыми в кулак. Понял, осел?
Мне было обидно, что он называл меня ослом даже с ударением на первом слоге. И потом, какое он имел право поучать меня, когда даже директор Кустодиевки не поучал. А вот и он семенит, быстренький, сухонький. Положил руку мне на голову и говорит:
— Ничего, братец кролик, все обмелется — мука будет. — Он смеется, и смех звучит, как старенький, надтреснутый колокольчик. Надтреснутый, но все равно светло-звонкий. — Точно, истинно говорю и предрекаю: мука будет! А то, что пока мука, а не мука, так то бывает, братец кролик, ох, как еще бывает!